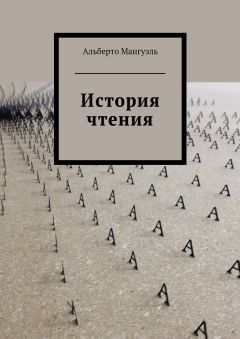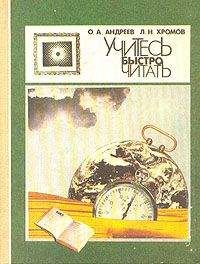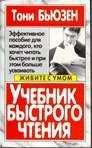Человек читающий. Значение книги для нашего существования - Хисген Рюд
в классе тишина
как между машинами
на парковке
как между деревьями в сквере
учительница с листками
бумаги в руке
встает перед классом
дети, что учатся читать,
развешивают буквы
на просушку
по стенам
зимой учительница
зажигает свечи
и дети, что учатся читать,
поют песни
и красят листки бумаги
в любимые цвета
своего любимого зверя
дети, что учатся читать,
думают о снах
которые придут к ним ночью[61].
Кейс ’т Харт (род. 1944)
Понимание прочитанного
Уметь расшифровать сначала буквы, потом страницы, потом целые книги как объекты — это первая задача. Уметь сосредоточить внимание на этой достаточно сложной для мозга работе — вторая задача. Положим, человек овладел искусством дешифровки и к тому же научился достаточно хорошо концентрироваться на тексте, — но как же происходит процесс понимания фактов и идей? Вероятно, это и есть главный вопрос. Ведь ради этого мы и читаем. Какие когнитивные процессы задействованы при чтении, помимо расшифровывания знаков? Как мы увязываем содержание прочитанного с имеющимися у нас опытом и знаниями?
ЧИТАТЕЛЬ КАК СОАВТОР Ты сочиняй, мои стихи читая,
Мой текст своими чувствами раскрась,
Пусть кажется, что рифма золотая
В твоем уме сегодня родилась.
Сонет создав, ты счастье приумножил,
Для горя ты теперь неуязвим.
Пока ты мой сонет читал, он ожил
И стал твоим твореньем — не моим.
Но мы с тобой равны — ведь звуков стаи
Я просто услыхал во тьме ночной:
Все те стихи, что я для вас слагаю,
Начертаны природою самой,
На небесах, от края и до края,
А я пишу диктант своей рукой.
А. ван Коллем (1858–1933)
Как ни удивительно, приходится констатировать, что если нам известно, что при овладевании технической стороной чтения мы воспользовались участками мозга, развившимися в процессе длительной эволюции, то для нас до сих пор остается тайной, каким образом мы умудряемся увязывать расшифрованные слова со значением[62]. И это служит дополнительным доказательством сложности процесса чтения. Попытаемся представить себе, как происходит такое соотношение. Читая, мы на основе текста конструируем ментальный образ, имеющий некую структуру. Что это за образ — неясно, но сравнить его можно с мысленной картой той или иной местности, где есть горы и тропы, или с мысленным планом пространств, созданных человеком: квартир или офисов[63]. Не вызывает сомнения, что читатель вносит огромный вклад в создание конкретного смысла текста. Неправильно думать, что текст сам по себе имеет некое «значение», которое писатель в него вложил, а читатель просто-напросто извлек при чтении. Это и подразумевал Ролан Барт (1915–1980), объявив о «смерти автора». По его мысли, в конечном счете только читатель наполняет текст смыслом[64]. Другой французский философ, Мишель де Серто (1925–1986), описывает роль читателя с меньшим пиететом. Он сравнивает читателей с кочевниками, совершающими налеты на территорию автора и уносящими с собой все, что им приглянулось[65]. Английский профессор литературы Джон Кэри (1934) рисует изящную и богатую нюансами картину взаимодействия читателя с автором:
Ни одна книга, ни одна страница никогда не будут для двух читателей одинаковыми. Этим я вовсе не хочу сказать, что читатель фактически является «автором» текста, как модно было утверждать некоторое время назад, ведь пианист, исполняющий Шопена, не есть Шопен. Я хочу с казать, что читатель, равно как и пианист, включен в творческий процесс[66].
Немецкий писатель Томас Манн (1875–1955) понял это уже в юном возрасте, о чем и написал своему школьному товарищу Отто Граутоффу: «В книгах мы всегда видим только самих себя. В этом смысле забавно, что все получают от одной и той же книги одинаковое удовольствие и называют ее автора гением»[67]. Перед всеми читателями лежит один и тот же текст, но вот читатели — разные. Из бесчисленных факторов, обусловливающих различия между читателями, возьмем один: ранее прочитанные книги. Поскольку на свете не существует единой для всех программы по чтению, каждый человек читает свой набор текстов. Совокупность ранее прочитанных им текстов подобна лоскутному одеялу: у каждого индивидуальный комплект лоскутков. На основе этого лоскутного одеяла (о прочих различиях между людьми, таких как сила воображения, знания, компетенции и т. д. и т. п., мы не говорим) читатели создают свое понимание прочитанного. Читатель заполняет все свободное пространство в тексте и создает образы, которые без него так и остались бы лишь потенциально возможными.
Еще одна существенная сложность состоит вот в чем: хотя автор и отправляет свое произведение в мир, это вовсе не значит, что данный текст является идеальным словесным воплощением его мыслей. Ведь текст нельзя сравнить с прозрачным стеклом, через которое человек видит реальность. Преобразование мыслей в структурированный текст неизбежно сопряжено с потерями. В 2016 году, когда в Амстердаме вышел в свет нидерландский перевод книги «Слова без музыки», автобиографии американского композитора Филиппа Гласса (1937), автор дал интервью нидерландской прессе. Он рассказал, что для него самое трудное — это не сочинить музыку, а записать ее нотами. Спонтанное творчество бывает трудно отразить в письме. Для Гласса нетрудно услышать, как звучит его музыка, для него трудно эту музыку записать так, чтобы и другие смогли ее услышать.
Вербализация — это непростой процесс, при котором невозможно достичь однозначного успеха. Любой, кто пытался передать мысль словами, сталкивался с тем, что слова оказывают сопротивление. Иногда они настолько уводят в сторону от первоначальной мысли, что бывает лучше начать все заново. Американский лингвист Рэй Джеккендофф (1945) утверждает — как то утверждал, впрочем, и нидерландский лингвист Карл Эбелинг (1924–2017), — что у человека бывают дословесные мысли. Процесс вербализации этих дословесных мыслей происходит далеко не гладко[68].
Отчасти по этой причине не следует смешивать понятия «грамотность» и «умение читать». Грамотность (умение расшифровывать буквы и слова, из которых состоит текст) — это навык, проанализированный в начале данной главы; умение читать — это культурное завоевание, основанное на этом навыке. Умение читать включает в себя не только умение расшифровывать буквы, но и нечто большее: способность соотнести прочитанное с имеющимися знаниями и контекстом. Для этого необходимо подключить воображение, память, наблюдательность и т. п. В результате человек оказывается в состоянии «читать между строк». То есть он понимает тексты с «двойным дном», когда писатель на что-то намекает или даже подразумевает нечто противоположное тому, что пишет черным по белому. Рассмотрим, например, афоризм Лушье{14}, опубликованный 5 октября 2021 года.