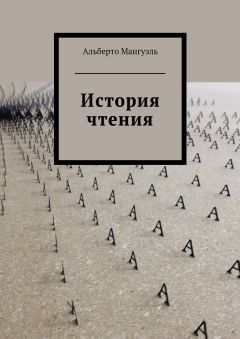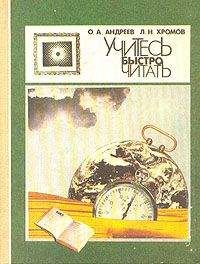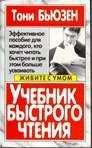Человек читающий. Значение книги для нашего существования - Хисген Рюд
При чтении в нашем распоряжении имеются два пути обработки информации, дополняющие друг друга. Если слова написаны согласно четким орфографическим правилам и являются редкими или новыми для нас, мы предпочитаем идти «фонологическим путем», то есть сначала расшифровываем группу букв, затем произносим их про себя, и тогда нам становится понятно значение получившегося звукового ряда (если таковое имеется). И наоборот, если перед нами слова, которые часто встречаются или пишутся не так, как слышатся (например, «сеВодня» или «отчеВо»), мы идем прямым путем, то есть сразу опознаем слово и понимаем его значение, а потом используем эту лексическую информацию, чтобы сообразить, как оно произносится[27].
В активировании этого беззвучного голоса с помощью визуального ввода данных как раз и состоит принципиальное отличие чтения письменного текста от восприятия устной речи. Присутствие в тексте этого беззвучного голоса настолько поражало читателей в архаичные времена, что чтение казалось им сродни волшебству. Или колдовству, как в VI песни «Илиады», в которой Беллерофонт везет в Ликию к Иобату складную дощечку, на которой Прет начертал «злосоветные знаки», содержащие просьбу убить Беллерофонта. Как упоминалось в Главе 1, Галилей в XVII веке все еще испытывал лирические чувства по поводу того, что письменный текст — это «способ разговаривать с людьми, находящимися в Индии, или с теми, кто не родился и не родится еще через тысячу или десять тысяч лет!» Да и Шекспир (1564–1616) замечал 400 лет назад, что человек, читая про себя, «слышит» отзвук слов в своей голове. В заключительных строках сонета 23[28] он призывает возлюбленную учиться слушать глазами, чтобы узнать о любви поэта:
Любви безмолвной речь учись читать,
Умей, глазами слыша, — понимать.{7}
«Слот для букв»
«Слушание ушами» активирует речевой центр в мозгу напрямую. А «слушание глазами» (то есть чтение) происходит при посредстве того, что Станислас Деан назвал «слотом для букв». Это область в зрительной коре головного мозга, где осуществляется распознавание визуального облика составляющих слово букв (графем), которые затем преобразуются в звуки (фонемы). Буквенные знаки распознаются как визуальная информация, подаваемая с помощью контраста между светлым и темным либо между разными цветами. Хрусталик проецирует эти знаки на сетчатку. Из всей сетчатки только центральная ямка (fovea centralis), находящаяся в середине желтого пятна (macula lutea) и захватывающая лишь 15 градусов от нашего поля зрения, обладает достаточной разрешающей способностью, чтобы передать эту визуальную информацию в мозг, который переработает ее в слова и в конечном счете в осмысленные фразы.
Чтобы центральная ямка получала обладающие значением визуальные единицы, наши глаза двигаются по строкам текста мелкими рывочками, которые называются саккады. За каждой саккадой следует краткая фиксация, в течение которой мозг распознает от 10 до 12 букв. Фиксация продолжается ровно столько времени, сколько требуется мозгу для такого распознавания. Чем сложнее текст, тем чаще происходят саккады и тем меньше букв распознается за одну фиксацию. «Сложность текста» — понятие относительное, большую роль здесь играют опытность, словарный запас и языковая компетентность читателя.
Современному читателю следует научиться еще и таким движениям глаз, при которых они могут охватить фрагменты текста большие, чем одна строка. Эти движения зависят от системы письма. Тексты на арабском и иврите читаются справа налево; тексты, написанные латиницей или кириллицей, читаются слева направо, китайские и японские тексты часто читаются сверху вниз. В нашем случае глаза выполняют саккады по форме буквы z. Сначала глаза двигаются по строке слева направо (верхняя горизонталь z), затем, дойдя до конца строки, двигаются одновременно вниз и влево (наклонная линия z), к началу новой строки, и по новой строке снова вправо (нижняя горизонталь z){8}. Натренированный читатель, научившийся оптимизиро-вать движение глаз, может читать со скоростью 400–500 слов в минуту.
Идентификация «имени» слова (ряда букв, стоящих в определенной последовательности и составляющих одно слово) — один из самых сложных процессов, происходящих в той части мозга, которая обрабатывает письменные и устные тексты[29]. Для перехода от букв к словам и значениям слов наш мозг использует невероятно эффективный процесс параллельной обработки данных. На нижнем уровне производится распознавание букв по тем графическим элементам, из которых они состоят. На следующем уровне по расположению букв распознаются слова. И в конце концов эти слова сопоставляются с гигантским запасом значений, хранящимся в нашем внутреннем вокабулярии.
При чтении в мозгу человека происходит целый ряд процессов — одновременно, соревнуясь друг с другом. На низшем уровне (на схеме нижняя строка) нейроны обрабатывают элементы, из которых составлены буквы (на схеме средняя строка). Эти буквы на высшем уровне складываются в слова (на схеме верхняя строка): их и должен распознать читатель. Те связи, которые заканчиваются шариком, мозг быстро отвергает, а те, которые заканчиваются стрелочкой, принимает. Иллюстрация заимствована из книги Станисласа Деана «Чтение в мозгу» и представляет собой упрощенный вариант модели, которую в 1981 г. впервые представили Джей Макклелланд и Дэвид Румельхарт.
Перепрофилирование нейронов
Второе недавнее достижение в изучении процесса чтения заключается в понимании того, что наша способность читать связана с «перепрофилированием нейронов» (в терминологии Станисласа Деана). Было обнаружено, что у всех людей, на каком бы языке мира они ни говорили, «слот для букв» всегда находится в одной и той же области мозга. Данный факт весьма примечателен в контексте наших знаний о бесконечной пластичности мозга{9}. Он указывает на то, что область, используемая мозгом для распознавания букв, до появления письма выполняла какую-то аналогичную функцию, важную для эволюции нашего биологического вида. Эта древняя функция заключалась в «чтении» местности и звериных следов или выражения человеческого лица. Такое «чтение» было важным для наших предков. Оно требовалось для охоты, для раннего распознавания угрозы вражеского нападения и для ориентации на местности, не нанесенной на карту. Для охотников-собирателей столь детальное знание местности, подразумеваемое словом «чтение», было условием для выживания. С возникновением более крупных общностей людей, сначала сельскохозяйственных, затем городских, зависимость человека от умения считывать мир природы стала неуклонно снижаться[30]. Однако та специализированная область мозга, которую задействовали наши предки-приматы для распутывания следов зверей, оказалась идеально подходящей для чтения. То есть можно утверждать, что наша способность к чтению, равно как и наша способность говорить, заложена в нас эволюционно. Так что процесс чтения своими корнями уходит в буквальном смысле слова в первобытную природу.
Потребность в письменной коммуникации существовала не всегда и не везде — собственно, как и в наше время. Письменность возникла в трех точках мира:
— почти 6000 лет назад в Месопотамии;
— 3500 лет назад в Китае;
— 2700 лет назад в Центральной Америке.
Можно заметить, что разброс по времени относительно невелик. Во всех трех точках сложились большие сообщества людей, живших весьма сконцентрированно, что способствовало развитию сложных социальных связей. Это были народы, перешедшие от охоты и собирательства к земледелию. Вероятно, данную закономерность можно сформулировать и в обратном направлении: отсутствие письменности в других точках мира объясняется тем, что для чтения требовалось перепрофилирование определенной области мозга. А во многих культурах эти области мозга продолжали использоваться «по назначению», чтобы выживать среди дикой природы, которую необходимо было внимательно «читать»[31].