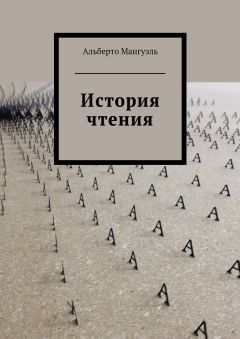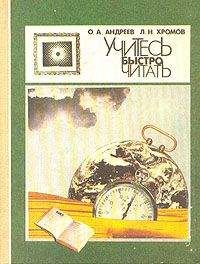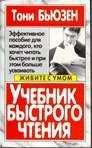Человек читающий. Значение книги для нашего существования - Хисген Рюд
Эксперименты американской исследовательницы японского происхождения Утако Минай и ее ассистентов, мониторивших сердцебиение 24 восьмимесячных зародышей, показали, что дети еще до рождения отличают английский язык от японского. Оказалось, что они восприимчивы к просодическим различиям между языками. Данный эксперимент показал, что в мозгу у младенца уже при рождении имеется несколько маленьких кирпичиков — фундамент языковых навыков[23].
Без целенаправленных усилий, просто слушая разговоры вокруг, дети естественным образом осваивают язык окружающих. С первых же дней после рождения малыша мы отвечаем на его крик и гуление, используя язык, и так до тех пор, пока ребенок не начнет им пользоваться не хуже нас. Чтобы научиться говорить легко и свободно, ребенок должен освоить язык до шестилетнего возраста. До девяти лет он легко может овладеть еще несколькими языками, после девяти-десяти лет это станет сложнее. Новорожденные узнают просодию только родного языка, а на иностранные не реагируют[24]. Поскольку мы осваиваем язык в столь раннем возрасте, можно сформулировать правило: кто овладел языком, будет владеть им всегда, или, точнее: мозг, развившийся благодаря языку, уже не вернется в доязыковое состояние.
Обычно человеческий детеныш осваивает родной язык автоматически, ибо не существует таких культур и народов, которые обходились бы без речевой коммуникации. В естественной обстановке человек не может не выучить язык. Исключениями являются только «дети-маугли»: те, кто вырос среди животных или в заточении, в полной изоляции от людей, не услышав речь до того возраста, когда овладевать родным языком стало поздно.
История «дикого мальчика» питера
На фасаде паба «Дикарь», расположенного на Бедфорд-стрит в Норвиче (Великобритания), имеется голубая табличка, напоминающая прохожим о том, что осенью 1751 года здесь был арестован таинственный черноволосый мужчина. Все полагали, будто это бродяга или нищий. Говорить он не мог и выражал свои чувства с помощью странного бурчания. Кем же он был?
Когда этот сорокалетний мужчина по имени Питер, не способный к коммуникации с людьми, был одиннадцатилетним мальчиком, его нашли на лугу близ города Хамельн, в Германии. Голый грязный ребенок, с длинными жирными волосами и отросшими ногтями, умел только рычать и пищать. Король Великобритании и Ирландии Георг I (1660–1727), сам родом из Германии, заинтересовался этим одичавшим созданием и в 1726 году взял его с собой в Лондон. Здесь маленький маугли оказался в центре внимания английской аристократии. Шотландский ученый и писатель Джон Арбетнот попытался его чему-то научить, но, кроме музыки, ребенок ни к чему не проявил интереса.
После смерти короля Георга I Питера отправили на ферму в деревне Нортчерч в Хартфордшире, откуда он в 1751 году сбежал, после чего и был пойман в Норидже, в 180 километрах от Хартфордшира, и водворен обратно на ферму. Там он и умер в возрасте семидесяти трех лет.
История Питера — одичавшего ребенка, выросшего вдали от людей и не научившегося говорить, привыкшего, подобно дикому зверю, питаться птицами и сырыми плодами, поражает воображение. Сегодня известно около тридцати случаев обнаружения «детей-маугли». В XVIII веке шведский биолог и врач Карл Линней (1707–1778) ошибочно отнес их к категории Homo ferus, к неполноценному подвиду людей. Самый известный из Homo ferus — Каспар Хаузер, немецкий найденыш, живший в XIX веке.
Что касается письменной формы языка, дело обстоит иначе. Чтение и письмо сделали человека абсолютно уникальным биологическим видом. Только теперь мы добрались до явления, принципиально отличающего нас от других животных. Умение читать и писать не является врожденным и, в отличие от умения говорить, не вырабатывается автоматически. Письменность — сравнительно недавнее достижение культуры. Соответственно, письменность — менее универсальное явление, чем язык: большинство языков не имеют письменности, и далеко не все люди владеют грамотой. Если для освоения устной речи достаточно просто иметь слух, для освоения чтения и письма одного зрения недостаточно. Овладение грамотой — трудный процесс, требующий долгих лет учебы в школе. В наше время почти все умеют читать и писать. Тем самым письмо также стало чем-то вроде симбионта нашей культуры. Мы рассматриваем чтение и письмо как нечто обязательное, людей безграмотных мы считаем социально неполноценными. В обществе всеобщей грамотности безграмотные люди подвергаются стигматизации.
У ребенка, овладевшего грамотностью, мозг начинает функционировать по-новому. Грамотность создает в мозгу новые мостики между устной речью и языком как зрительной системой{6}. Наше умение и говорить, и читать, и писать само по себе изменяет наше когнитивное восприятие мира. Кроме того, каждый человек меняется в зависимости от того, что именно он читает. Наш мозг меняется под воздействием всякого приобретаемого нами опыта. В том числе под воздействием книг. Чтобы отдать должное той роли, которую играет чтение, о грамотности правильнее было бы говорить не как о «навыке», а как о «великом достижении». Однако поскольку принято употреблять слово «навык», мы последуем сложившейся традиции, но при этом будем неизменно осознавать, сколь грандиозные когнитивные и культурные последствия имеет овладение данным «навыком».
То, что при чтении требуется включение когнитивных функций, не вызывает сомнения. Ведь мы, как правило, знакомимся с фактами и мыслями, новыми для нас. То, что чтение имеет также перцептивную сторону, тоже само собой разумеется. Если не считать шрифта Брайля или использования «пальцевого алфавита», с помощью которого научилась читать слепоглухонемая Хелен Келлер, мы всегда используем зрение. Когниция и перцепция — это функции мозга, которые мы задействуем при бессчетном множестве других видов деятельности. Но чтобы читать, наш мозг должен производить еще две специфичные операции, которым надо целенаправленно учиться. Их освоение дается не так уж легко. Во-первых, мы должны расшифровать знаки, называемые буквами. Во-вторых, мы должны уметь сосредоточивать внимание. Без достаточной дисциплины мы не можем заставить наши глаза скользить по буквам, из которых складываются слова, а потом предложения. Нам приходится напрягаться не только пока мы учимся читать, но и после овладения этим навыком: чтение всегда требует напряжения внимания. Правда, фокус его со временем смещается: если в начале мы осознанно концентрируемся на технических аспектах — направлении письма, расшифровке буковок и других условных знаков: пробелов, переносов, — то потом мы упражняемся в беглости чтения и расширении собственного словарного запаса. Сколько бы мы ни тренировали мозг, чтение невозможно довести до такого же автоматизма, как, например, подъем по лестнице. Поднимаясь по лестнице, лучше не задумываться, как это происходит, а то споткнетесь. А при чтении спотыкается порой даже самый опытный человек. Любой читатель может вдруг подумать о чем-то постороннем, так что ему придется перечитать фразу, а то и целый абзац.
Расшифровка знаков
Процесс расшифровки закодированного в буквах (или других письменных знаках) сообщения на сегодняшний день изучен досконально. Лучшее описание этого дал, несомненно, французский нейробиолог Станислас Деан (р. 1965) в книге «Чтение в мозгу» («Reading in the Brain», 2009). Книга легко читается, при этом приводимый автором анализ современных научных достижений в данной области отличается глубиной[25].
Чтобы понять, насколько уникальным навыком является чтение, для начала надо признать, что при чтении у нас в мозгу происходит не один, а сразу два процесса: зрительный (визуальный) и слуховой (аудиальный). Обучение чтению на родном языке по сути сводится к тому, чтобы увязать в голове информацию о звуках речи (которой мы располагаем, ибо уже научились говорить) с информацией о форме букв[26]. То есть при чтении мы преобразуем визуальную информацию (графемы или буквы) в аудиальную (фонемы или звучание букв). Чем больше мы читаем, тем легче происходит декодирование и тем больше слов мы привыкаем распознавать в графической форме, не активируя их звучание: