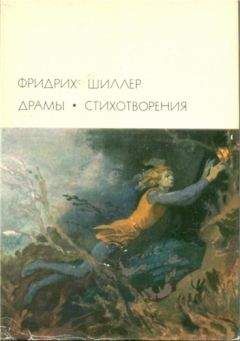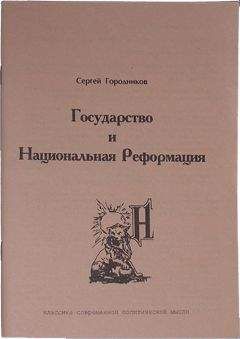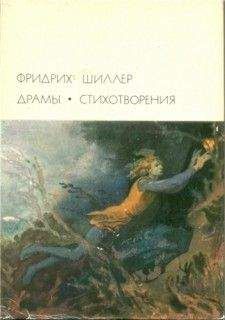Фридрих Шиллер - Тридцатилетняя война
Столь постоянное упорство, столь беспримерное пренебрежение всеми приказаниями императора, столь преднамеренное невнимание к общему благу, в связи с крайне двусмысленным образом действий по отношению к неприятелю, должны были, наконец, убедить императора в основательности зловещих слухов, давно уже ходивших по всей Германии. Долго удавалось Валленштейну прикрывать видимостью законности свои преступные переговоры с неприятелем и убеждать всё ещё благоволившего к нему императора, что единственная цель этих тайных сношений — доставить Германии мир. Но как ни был он убеждён, что его тайна непроницаема, всё его поведение в целом вполне оправдывало обвинения, которыми его противники прожужжали уши императору. Чтобы на месте проверить справедливость или несправедливость этих обвинений, император не раз уже посылал в лагерь Валленштейна соглядатаев, но они возвращались с одними предположениями, так как герцог остерегался что бы то ни было излагать письменно. Однако когда, наконец, сами министры, стойкие защитники Валленштейна при дворе, поместья которых герцог разорял такими же поборами, стали на сторону его противников; когда курфюрст Баварский пригрозил, что он заключит мир со шведами, если Валленштейн не будет отставлен; когда, наконец, его отставки настоятельно потребовал испанский посол, грозя в случае отказа прекращением субсидий от своего двора, — император вторично счёл себя вынужденным лишить Валленштейна командования войсками.
Вскоре самовластные и непосредственные распоряжения императора по армии не оставили у герцога сомнений в том, что договор с ним считается расторгнутым и что отставка его неизбежна. Один из его помощников в Австрии, которому Валленштейн под страхом смертной казни запретил повиноваться венскому двору, получил непосредственно от императора приказ присоединиться к курфюрсту Баварскому, и самому Валленштейну передано было строжайшее повеление послать несколько полков на подмогу кардиналу-инфанту, шедшему со своей армией из Италии. Все эти распоряжения показывали герцогу, что в Вене твёрдо решили постепенно обезоружить его, а затем, слабого и беззащитного, уничтожить одним ударом.
Во имя собственного спасения он должен был теперь как можно скорее осуществить план, первоначально созданный лишь с целью получить большую власть. Герцог медлил его исполнением дольше, чем предписывало благоразумие, потому что ему всё не выпадало благоприятного сочетания звёзд или же — этим он обычно успокаивал нетерпение своих друзей — «потому что ещё не настало время». Время не настало и теперь, но настоятельная необходимость уже не позволяла ему долее дожидаться благосклонности светил. Прежде всего нужно было удостовериться в верности главных военачальников, а затем — испытать преданность войск, которую он полагал безграничной. Три командира — полковник Кински, Терцки и Илло — давно уже были посвящены в тайну заговора, и первые два были связаны с ним родственными узами. Равное честолюбие, равная ненависть к правительству и надежда на неслыханно щедрую награду теснейшим образом связывали их с Валленштейном, который не пренебрегал самыми низменными средствами, только бы увеличить число своих приверженцев. Полковника Илло он в своё время убедил ходатайствовать в Вене о графском титуле, обещав ему свою могущественную поддержку в этом деле. Но втайне он написал министру, чтобы тот отказал Илло в его просьбе — не то, по его словам, явятся ещё многие, имеющие такие же заслуги, и станут требовать такой же награды. Когда Илло возвратился в армию, Валленштейн прежде всего спросил об исходе его хлопот и, услыхав о полной неудаче, разразился негодованием против двора. «Вот чего добились мы за нашу верную службу, — воскликнул он, — вот как ценят мои просьбы; а вам, за ваши заслуги, отказывают в такой ничтожной награде! Кто захочет долее служить столь неблагодарному повелителю! Нет, что до меня, я отныне заклятый враг Австрийского дома». Илло во всём согласился с ним, и они заключили между собой нерушимый союз.
Но то, что было известно этим трём наперсникам герцога, долго оставалось непроницаемой тайной для всех остальных, и уверенность, с которой Валленштейн говорил о преданности своих офицеров, основывалась исключительно на благодеяниях, которые он им оказывал, и на их недовольстве двором. Но прежде чем снять маску и решиться на открытое выступление против императора, необходимо было обратить это шаткое предположение в уверенность. Граф Пикколомини, тот самый, который в битве при Люцене выказал столь беспримерное мужество, был первым, чью верность Валленштейн подвергнул испытанию. Щедрыми дарами герцог приобрёл право на признательность этого генерала, которому оказывал явное предпочтение, ибо Пикколомини родился под одним созвездием с ним. Теперь он объяснил ему, что, вынужденный к тому неблагодарностью императора и неминуемой опасностью, принял твёрдое решение отречься от интересов Австрии, перейти с лучшей частью армии на сторону неприятеля и бороться с австрийской династией во всех странах, на которые простирается её могущество, до тех пор, пока она не будет совершенно искоренена. В этом деле, прибавил герцог, он рассчитывает прежде всего на Пикколомини и давно уже предназначил ему блистательнейшую награду. Когда тот, чтобы скрыть замешательство, вызванное в нём столь невероятным предложением, заговорил о препятствиях и опасностях, связанных с таким дерзким предприятием, Валленштейн посмеялся над его страхом. «В подобных рискованных делах, — воскликнул он, — трудно только начало; звёзды к нему благосклонны, более благоприятного случая желать не приходится, к тому же и удаче нужно хоть сколько-нибудь доверять!» Его решение неизменно, и если иначе никак не выйдет, то он готов попытать счастья во главе хотя бы тысячи всадников. Пикколомини не решился долгими препирательствами возбудить недоверие герцога и с притворной готовностью уступил его доводам. Так велико было ослепление герцога, что он, несмотря на все предостережения графа Терцки, нисколько не усомнился в искренности человека, который, не теряя ни минуты, сообщил об этом чрезвычайном открытии в Вену.
Чтобы, наконец, решительно устремиться к цели, Валленштейн в январе 1634 года созвал всех военачальников в Пильзен, где он расположился лагерем после своето отступления из Баварии. Последние требования императора — избавить его наследственные владения от расквартирования там войск на зиму, отвоевать Регенсбург в это суровое время года, уменьшить армию на шесть тысяч человек кавалерии и подкрепить ими войско кардинала-инфанта — были достаточно вески, чтобы стать предметом обсуждения военного совета, и этот благовидный предлог скрывал от любопытных подлинную цель съезда. Сюда же были тайно приглашены шведы и саксонцы для мирных переговоров с герцогом Фридландским; с начальниками более отдалённых отрядов предполагалось снестись письменно. Из приглашённых командиров явилось двадцать, но в числе их не было самых влиятельных: Галласа, Коллоредо и Альтрингера. Герцог вторично, притом более настоятельно, предложил им приехать, а пока, в ожидании их скорого прибытия, приступил к делу.
Нелёгкая задача предстояла ему теперь: склонить к позорнейшей измене гордое, мужественное, ревниво охраняющее свою честь дворянство, внезапно стать негодяем, искусителем, мятежником в глазах тех, кто доселе привык чтить в нём отблеск верховного величия, видеть в нём судью своих поступков, хранителя законов. Нелегко было поколебать в прочных её основах законную, веками укреплённую, освящённую религией и законами власть, разрушить все чары воображения и чувств — грозных хранителей законного престола, — насильственной рукой искоренить то неистребимое чувство долга, которое так громко и так властно говорит в груди каждого подданного за прирождённого государя. Но ослеплённый блеском короны Валленштейн не видел пропасти, разверзшейся у его ног, и в захватывающем радостном ощущении своего могущества он забыл — обычный удел сильных и отважных душ! — по достоинству оценить и обдумать все препятствия. Валленштейн не видел пред собой ничего, кроме армии, отчасти равнодушной ко двору, отчасти озлобленной против двора, — армии, привыкшей слепо преклоняться пред его властью, дрожать пред ним, своим законодателем и судьёй, в благоговейном трепете, словно веления рока исполнять его приказания. В безмерной лести, расточаемой его всемогуществу, в дерзком издевательстве над двором и правительством, которое позволяла себе бесшабашная военщина и извинением которому служила дикая разнузданность лагеря, ему чудились сокровенные помышления армии, а смелость, с которой решались порицать действия самого монарха, казалась ему залогом готовности войск отказаться от верности столь презираемому государю. Но наистрашнейшим препятствием оказалось для него именно то, что он считал таким лёгким: все его расчёты разбились о верность его войск своему долгу. Опьянённый владычеством над этими необузданными толпами, он приписывал всё своему личному значению, не различая, в какой степени он им обязан самому себе и в какой — своему сану. Всё трепетало пред ним потому, что он был носителем законной власти, потому, что повиновение ему было долгом, потому, что его авторитет опирался на величие престола. Величие само по себе может вызвать изумление и страх, но лишь законное величие вызывает благоговение и покорность. Этого решающего преимущества он лишился с того мгновения, как открыто объявил себя преступником.