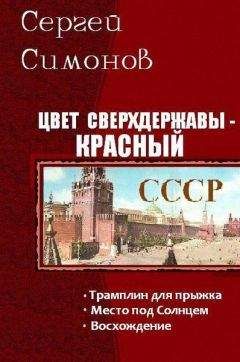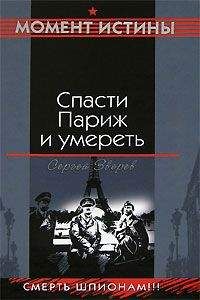Андрэ Моруа - О тех, кто предал Францию
Я возразил ему, что, к сожалению, я не специалист в вопросах авиации и не могу говорить о них с должным авторитетом, а если я и заговорю, то никто не захочет меня слушать, и что поэтому уж лучше мне продолжать писать романы и биографии.
— Вы неправы, — ответил Черчилль, и в его сильном голосе прозвучали столь свойственные ему иронические нотки. — Сейчас есть только одна тема, которая может интересовать француза, — это угроза со стороны авиации. Для вашей страны это может означать гибель. Культура и литература — это вещи, которым нет цены, но культура, не опирающаяся на какую-то силу, легко рискует стать обреченной культурой.
Я так никогда и не написал статей, которых требовал от меня Черчилль, и теперь горько сожалею об этом. Разговор с ним уже тогда произвел на меня глубокое впечатление и оставил во мне неизгладимое чувство тревоги. Я неоднократно осведомлялся у посвященных лиц о состоянии нашей авиации, но то, что я слышал в ответ, звучало уклончиво или же свидетельствовало об откровенном пессимизме.
— Если вспыхнет война, — сказал мне один полковник, командовавший эскадрильей бомбардировщиков в Лионе, — то мы все храбро умрем, но больше мы ничего сделать не сможем.
— Почему? — спросил я.
— Потому, что нас мало и наши машины устарели.
В 1936 году положение еще ухудшилось. Занятие фабрик бастующими рабочими, инертность правительства, всякие бюрократические проволочки и сумасбродные требования профсоюзов катастрофически снизили продукцию авиапромышленности. В 1937 году ежемесячный выпуск самолетов во Франции выразился в невероятной цифре: 38. И это в то время, когда Германия ежемесячно производила тысячу самолетов. Между тем как во Франции пагубная вражда отравляла взаимоотношения между руководителями промышленности и рабочими, в Германии все силы были мобилизованы на подготовку к войне. Бессмысленные рассказы о слабости национал-социалистского режима принимались во Франции за чистую монету — воистину грезы, которые желание выдавало за явь. Люди, которые по-настоящему знали Германию, как сэр Эрик Фиппс, английский посол в Берлине, и его французский коллега, Франсуа Понсе, предупреждали уже давно. Я вспоминаю разговор этих дипломатов в 1937 году, происходивший в моем присутствии.
— Не сдедует создавать себе иллюзий, — сказал Франсуа Понсе, — Германия сильна, она это знает и полна решимости воспользоваться своей силой. Франция и Англия могут выбрать одно из двух: либо оба наши государства должны отказаться от всего остального и сконцентрировать всю свою энергию на вооружениях, либо следует искать путей соглашения с Германией.
— Возможно ли это? — спросил я. — Действительно ли
Германия желает соглашения? Франсуа Понсе ответил:
— Германия ничего не хочет и хочет всего... Германия прежде всего стремится к движению, она жаждет перемен. Ее нынешних вождей увлекают исполинские символы и внушительные демонстрации. Вы хотите завоевать их симпатии? Так соорудите на противоположных берегах Рейна две огромные лестницы. Соберите на одном берегу Рейна миллионы немецких юношей под знаком свастики, а на другом берегу — миллионы молодых французов под нашим флагом, и пусть эти юноши в безупречном строе дефилируют по этим лестницам вверх и вниз, в то время как посреди Рейна, на плоту, французский главнокомандующий сойдется лицом к лицу с Гитлером. Это, пожалуй, может дать некоторые надежды на соглашение между Германией и Францией, при условии, что к этому времени вы станете достаточно сильны. Но если свои отношения с Германией вы хотите регулировать путем дипломатических махинаций и выкрутасов, к чему немцы испытывают только презрение, если вы попрежнему будете писать ноты и произносить речи, вместо того чтобы строить самолеты и танки, то мы прямехонько придем к войне, к войне, которую нам не удастся выиграть.
Но так оценивал положение не только Франсуа Понсе. Правительства других стран, которые сравнивали военные расходы Германии с нашими и английскими, не замедлили понять, что соотношение сил в Европе изменилось, и многие из них приняли соответствующие меры предосторожности. Французский посол в Варшаве Ларош говорил мне не раз, что несправедливо упрекать Польшу за то, что с 1936 года она начала искать благосклонности Германии. «Чего же еще можно было ожидать? Когда они видят, что Германия вооружается, а Франция и Англия ничего не делают, чтобы затруднить ей это; когда в марте 1936 года Гитлер у всех на глазах занимает Рейнскую область, а Франция, что называется, и бровью не ведет; когда они слышат по радио заявление французского премьера о том, что он не допустит, чтобы Страсбург оказался в сфере действия германских орудий, а потом, к их изумлению, за этими словами не следует никаких действий, — то они те
ряют всякое доверие к нам. Руководители Польши заявили мне тогда, что если Франция не помешает вооружениям Гитлера, Польша будет вынуждена пойти на сближение с ним. Так оно и вышло. По тем же причинам из-под французского влияния ускользнули в то время и Бельгия с Югославией».
Несомненно, что и рядовые люди в Англии и Франции в какой-то мере сознавали нашу слабость, так как в 1938 году им была ненавистна мысль о войне. Это было ясно видно во время мюнхенской конференции. В Америке уже тогда открыто критиковали Чемберлена и Даладье. Но в Америке не представляли себе истинного положения дел. Им трудно было представить себе, что должны чувствовать жители Парижа и Лондона, которые знают, что в стране нет хороших бомбоубежищ, нет противогазов и зенитных орудий, и которые в то же время находятся под впечатлением страшных слухов, распространяемых немецкой пропагандой, о гигантских бомбах, взрывы которых могут разрушить целые кварталы. Люди, которые не дрогнули бы перед таким противником, как в 1914 году, приходили в ужас, думая о возможности нападений на тыл, жертвой которых станут их жены и дети. Поэтому мюнхенское соглашение, считавшееся в Нью-Йорке позорным, было воспринято в Париже и Лондоне с неимоверным воодушевлением.
Однако после мюнхенской конференции политика умиротворения утратила в Англии всякую популярность. Английская общественность вынуждена была примириться с Мюнхеном, так как армия и авиация были недостаточно подготовлены. Но она восприняла это как горькое лекарство и была полна решимости принести все необходимые жертвы, чтобы избежать подобного унижения в будущем. В январе 1939 года я отправился в Англию в лекционное турне, во время которого мне пришлось объездить всю страну. По возвращении в Париж я написал статью, в которой утверждал, что Англия, в марте введет всеобщую воинскую повинность, и это тогда показалось большинству моих французских знакомых безумием. Но в марте 1939 года действительно последовало решение о воинской повинности.
Занятие немцами Праги было для Чемберлена и остальных сторонников политики умиротворения болезненным ударом. Британский премьер-министр был искренно возмущен. Несмотря ни на что, он твердо верил, что аннексионистские планы Гитлера не имеют в виду не-немецкое население. Теперь он получил доказательство обратного. Он стал одним из решительнейших противников Гитлера в Англии — факт, который многим остался неизвестен. Движимый негодованием и гневом, он неожиданно для себя дал гарантию Польше. Я был тогда в Америке. Мне сразу же стало ясно, что это означает войну, так как, с одной стороны, Германия не откажется от своей политики экспансии и нападет на Польшу, но и Англия со своей стороны останется верной данной ею по всей форме письменной гарантии.
Внезапное возвращение Англии к европейскому политическому сотрудничеству, разумеется, привело ее к более тесному сближению с Францией. В июне 1939 года состоялся торжественный обед в Париже, на котором присутствовали английский военный министр Хор-Белиша, французский министр иностранных дел Боннэ и генерал Гамелен. На этом обеде Хор-Белиша заявил, что в случае войны британские войска будут сражаться под руководством французского главнокомандующего и что он гордится возможностью говорить о «нашем генерале Гамелене».
Несколькими днями позже в Париж опять приехали Хор-Белиша и Черчилль, чтобы присутствовать на параде 14 июля. Это было великолепное зрелище — последний счастливый день, пережитый Парижем. Мы собрали для парада все, что составляло гордость Франции, наших стрелков, зуавов, морскую пехоту, иностранный легион и регулярные войска. Черчилль сиял. «Слава создателю за французскую армию», — были его слова. Мы еще тогда не знали, что храбрость и превосходные боевые качества людей бессильны, если техническое снаряжение недостаточно.
Вечером меня посетил Хор-Белиша. Он рассказал мне о тех трудностях, которые встречаются при создании английской армии. «Воинская повинность дело разумное и правильное, — сказал он, — но пока она существует больше на бумаге. Нехватает оружия, чтобы вооружить всех военнообязанных, нет офицеров для их обучения. Офицеры мировой войны не умеют обращаться с новым оружием». На вопрос о том, сколько же дивизий он сможет послать во Францию, если завтра вспыхнет война, он ответил: «Поначалу самое большее — шесть». Это число испугало меня, но еще больше я испугался, когда вскоре узнал, что наш генеральный штаб потребовал от Англии на все время европейской войны всего-навсего 32 дивизии, Я вспомнил, что в 1918 году у нас было не меньше 85 британских дивизий, и хотя Америка, Россия, Италия и Япония были нашими союзниками, мы все же были на волосок от поражения.