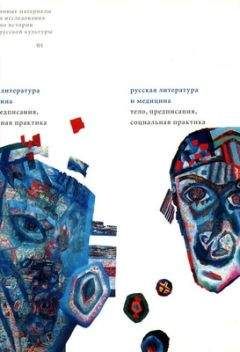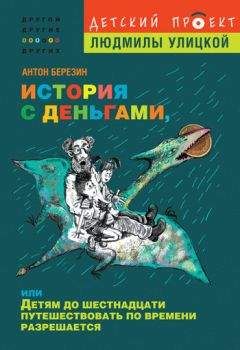ЕВА. История эволюции женского тела. История человечества - Бохэннон Кэт
Больше цветения и сокращения
В поисках Женского Мозга игнорировать подростковый возраст невозможно. В конце концов, именно тогда большинство человеческих тел становятся половозрелыми. В подростковом возрасте с огромной скоростью выделяется тестостерон; то же самое относится и к эстрадиолу и другим эстрогенам. Оба изменения в гормональном профиле, как известно, влияют на развитие мозга, поэтому вполне предсказуемо, что подростки испытывают значительные изменения. Если что-то наклоняет развитие мозга в ту или иную сторону, это неизбежно влияет на его функциональность.
Одна из важнейших вещей, которые человеческий мозг должен делать, – тщательно выстраивать свою меняющуюся роль в местной социальной среде. Не просто выражать желание потрахаться. В большинстве человеческих обществ, как только дети достигают репродуктивной зрелости, их обязанности меняются, иногда совершенно внезапно. По мере того как люди в каждой известной культуре отходят от зависимости от своих родителей, им необходимо узнать, что означает «независимость». Человеческие общества обычно отмечают эти переходы формальными ритуалами «взросления» – некоторые до того, как социальная жизнь ребенка заметно изменится (как мексиканская кинсеаньера в пятнадцать лет), а некоторые ближе к взрослому возрасту, как американская традиция вдребезги напиться в ночь, когда тебе исполняется двадцать один. Есть выпускные, религиозные церемонии – например, бар– и бат-мицва, католическая конфирмация. Некоторые из ритуалов настолько символизируют новую личность, что человек меняет имя.
И конечно же, есть брак, который для многих культур означает окончательный переход во взрослую жизнь.
Это большой познавательный труд. Но модели развития нашего мозга, похоже, запрограммированы с ним справляться. Хотя все исследования, что называется, с пылу с жару, мы уже можем сказать, что здесь работает ряд различных механизмов. Стволовые клетки мозга, похоже, мигрируют наружу, к фронтальной коре, образуя небольшие скопления по мере того, как мозг растет и реорганизуется. Подростковое «расцветание» не такое плодовитое, как у двухлетнего ребенка. Это скорее небольшой всплеск роста, обычно приуроченный к росту наших длинных костей. Пока молодой человек стонет по ночам из-за болезненного растяжения связок и костей, растет и его мозг.
А еще он меняется. В период полового созревания происходит масштабный вторичный процесс «сокращения», когда уничтожаются некоторые синаптические связи, строившиеся с раннего детства до подросткового возраста. Также предстоит решить задачу изоляции: ключевые проводящие пути становятся дополнительно миелинизированными (жировое покрытие нервных волокон), особенно в мозолистом теле.
У девочек этот процесс обычно начинается в возрасте от десяти до двенадцати, а у мальчиков – позже, от пятнадцати до двадцати. Женский и мужской мозг сокращаются примерно одинаково, но у мужчин это происходит позже и быстрее. Это может быть одной из причин, по которой шизофрения предсказуемо и так сильно поражает мальчиков именно в середине и конце подросткового возраста, тогда как у женщин не проявляется до двадцати пяти. Изменения в мозге также связаны с депрессией и патологической тревогой: да-да, «подростковая тоска» реальна. Когда все эти сокращения и миелинизация постепенно сходят на нет, мозг большинства прекрасно адаптируется. Но из-за генетической уязвимости или влияния окружающей среды мозг некоторых людей не справляется.
Будь то во время переходного периода, подростковой борьбы или в любой момент между ними, детский мозг больше всего занимается социальным обучением: уделяет чрезвычайно пристальное внимание тому, чего хотят другие, пытаясь предсказать эти желания, а также найти быстрые способы сообщить другим о своих желаниях.
Например, кофе. Человеческие малыши не знают, что плохо беспокоить мать бесконечными просьбами, прежде чем она выпьет утренний кофе. У детей постарше нет проблем с усвоением этого правила, как и тысяч других подобных социальных правил. Дело не в том, что старшие дети больше заботятся о своем влиянии на окружающих, а скорее в том, что им удалось изучить набор параметров, позволяющих справляться с когнитивным состоянием матери. Младенцы знают, когда на них обращают внимание, по зрительному контакту и физическому прикосновению, и склонны плакать, если не получают их. Но дети постарше понимают, что им не нужно повторять «Мама, смотри» больше пары раз – она, вероятно, уже услышала и скоро посмотрит. Более того, они узнали, что мама может рассердиться, если продолжить приставать. Это задача теории разума. А в теории разума – то есть построении модели внутреннего когнитивного состояния другого человека, определении его потенциальных желаний и соответствующего общения – люди необычайно хороши.
Малыши, например, могут сидеть за столом и указывать на то, чего хотят. Однако шимпанзе, похоже, чувствуют необходимость встать, перелезть через стол, дико жестикулировать и постоянно смотреть то в сторону того, что им нужно, то в сторону своих опекунов. Шимпанзе общаются с помощью сочетания грубых жестов, вокализации и мимики. Большинство человеческих детей, какими бы «гиперактивными» они ни были, кажется, «понимают»: можно просто показать пальцем, убедиться, что кто-то это заметил, и ждать, пока другой человек поймет и выполнит желание. Это означает, что они хороши – возможно, врожденно хороши – в быстром выстраивании общего социального понимания.
Отчасти это может быть особенностью нашей линии гоминидов. Но это также связано с тем, как взаимодействуют человеческие матери и дети и как люди старшего возраста взаимодействуют с ребенком вообще. Дети учатся показывать пальцем еще и потому, что им это необходимо, поскольку, в отличие от шимпанзе, они не могут передвигаться самостоятельно, пока им не исполнится хотя бы семь-двенадцать месяцев. Если человеческий ребенок хочет чего-то – предмет, или пойти куда-то, или перестать быть запертым в детском стульчике, – он должен попросить других о помощи.
Подобная зависимость может быть и одной из причин становления человеческого мозга: у ребенка нет другого выбора, кроме как просить. Вариант только один – стать лучше в общении, особенно в референтной коммуникации. Шимпанзе это нужно недолго, потому что тело дает им независимость раньше, чем человеческим детям.
Курица или яйцо. Мы эволюционировали быть более зависимыми в первый год жизни, потому что у нас вырос мозг, способный удовлетворить эти потребности? Или мы вырастили мозг, способный к социальному общению, потому что нашим зависимым детям нужно было научиться о чем-то просить? Мы никогда не узнаем. Также нет причин, по которым верным не может быть и то и другое. То, как мы создаем наши суперкомпьютеры, во многом связано с обучением в детстве, поэтому любое незначительное изменение в геноме, влияющее на развитие плода и ребенка, потенциально могло изменить мозг наших предков. И как только климат стал жутко нестабильным (возможно, где-то во время Homo habilis), общая обучаемость мозга наших детей стала жизненно важной для их процветания. Эта общая способность будет необходима обоим полам. Другими словами, возможно, причина, по которой человеческий мозг имеет так мало половых различий в функциональности, заключается в том, что потребность в приспособляемости перевешивает многие из встроенных половых различий, оставшихся от наследия млекопитающих.
Детям наших Ев нужно было научиться решать проблемы – не только конкретные, а вообще любые. Социальная взаимозависимость – отличный способ, поскольку она создает банк серверов из суперкомпьютеров, и проблема не ложится всем весом на автономные машины. Чтобы научиться этому, придется потратить годы на тщательную тренировку своего социального мозга.
Что и может быть реальным ответом на большинство вопросов о Женском Мозге – не только о том, что это такое, но и о том, как мы его строим.