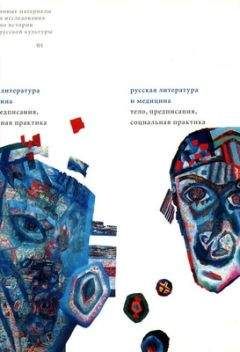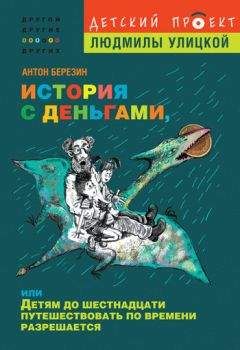ЕВА. История эволюции женского тела. История человечества - Бохэннон Кэт
Но вот что забавно: размер мозга новорожденного человека примерно равен мозгу новорожденного шимпанзе. Конечно, мы намного толще детенышей шимпанзе, и с этого момента накапливаем еще больше жира, но наш мозг не так уж сильно отличается. Самое интересное происходит после нашего рождения: что произошло и с мозгом древней обезьяны, когда эволюция гомининов усилила лобную долю и подарила ей сверхдолгое детство.
Шимпанзе выходят из утробы со значительно более развитым мозгом, чем у человеческих младенцев: около 40 % от размера взрослой особи у шимпанзе и чуть меньше 30 % у человека. Частично эту разницу можно объяснить тем фактом, что мы рождаемся месяца на три раньше срока по сравнению с другими обезьянами. Но это еще не все. Человеческие младенцы в целом развиваются медленнее. Шимпанзе могут ходить уже к четырем неделям. Хотя они будут развиваться в течение многих лет, мозг шимпанзе продвинулся значительно дальше, чем мозг человеческого ребенка за девять месяцев. Человеческие младенцы не могут даже ползать самое раннее до шести месяцев (многим нужно ближе к десяти), и они обычно не делают своих первых шагов в вертикальном положении до двенадцати-четырнадцати месяцев. К тому времени, когда им исполняется два года, их мозг по-прежнему составляет лишь около 80 % от размера взрослого.
Это во многом объясняет, почему череп новорожденного в основном мягкий, с двумя промежутками между костными пластинками – родничками. На первый взгляд, идея ужасная: зачем приходить в мир с двумя гигантскими слабыми точками прямо над мозгом? Один хороший удар, и вам конец. Но это лишь один из компромиссов, на которые пошла человеческая эволюция. Чтобы заставить мозг вырасти до таких размеров, нам нужно, чтобы кость не преграждала ему путь. И мы также не можем повторять за шимпанзе и развивать в утробе матери до 40 % от размера взрослого мозга. Если бы наши тела попытались это сделать, это убило бы и мать, и плод во время родов (или в результате метаболической катастрофы задолго до появления на свет).
Значит, где-то глубоко в линии гомининов – где-то между Люси и Homo sapiens – внутри утробы матери и в раннем детстве геном начал возиться с тремя вещами: черепом, мозгом и жиром.
Итак, жир. Человеческий плод начинает накапливать жировые запасы в третьем триместре и продолжает на протяжении всего младенчества и раннего детства. Отчасти это связано с подготовкой на случай уменьшения количества молока у матери, но нашим детям нужна эта подстраховка, потому что мозг очень жадный. Поскольку мозговая ткань является самым дорогим материалом, наши дети уже давно научились сбрасывать все возможные остатки жира в хранилище.
Кроме того, метаболизм человеческих младенцев раскален добела. В течение первых шести месяцев жизни новорожденные каждый день выпивают молока на 16 % от своего веса. Для сравнения: среднестатистической женщине весом 150 фунтов необходимо есть и пить лишь около 5 % от веса своего тела в день – треть того, что нужно новорожденным. Младенцы вкладывают огромную часть всей этой энергии, жиров и белков непосредственно в формирование мозга-переростка.
В возрасте двух лет наш мозг достигает 80 % от размера взрослого, после чего нам требуется гораздо больше времени, чтобы достроить оставшиеся 20 %. Мозг не завершает внутреннюю организацию до тех пор, пока нам не исполнится двадцать пять. Вероятно, самое большое нововведение, которое придумала линия человекообразных, – это долгое детство, и именно поэтому мы такие умные – дело не в размере мозга, а в том, как мы его строим.
Две основные тактики, которые использует наш организм, – цветение и сокращение.
Итак, оборудование. По мере того как в первые два года жизни мозг становится больше, нейронные стволовые клетки, похоже, мигрируют из одной части мозга в другую, массово формируя лобную долю и прокладывая магистрали между этой областью «высшего порядка» и областями, которые контролируют движения и сенсорную информацию.
В процессе, похоже, проявляются некоторые половые различия. Например, как я уже упоминала, девочки начинают лопотать и говорить раньше, чем мальчики. Они могут поддерживать зрительный контакт, указывать на то, что им нужно, и раньше начинают общаться со своими опекунами. Даже в мелкой моторике девочки, как правило, опережают мальчиков: лучше манипулируют игрушками, едят с помощью столовых приборов и (со временем) более четко пишут и рисуют. В то же время мальчики склонны больше ерзать и пинаться и раньше достигают физических показателей, задействующих большие группы мышц. Но и девочки, и мальчики обычно начинают ходить примерно в одном и том же возрасте, поэтому, что бы мальчики ни делали, чтобы быстрее развить части своего мозга, связанные с движением, девочкам удается вовремя наверстать упущенное.
Никто не знает, почему эти различия в развитии существуют. Одна из возможностей заключается в том, что мальчики с большей вероятностью рождаются несколько раньше срока – возможно, из-за загадочного иммунологического конфликта с организмом матери или по какой-то другой причине – и даже совсем чуть-чуть недоношенным детям обычно требуется больше времени, чтобы догнать сверстников. Но возможно также, что половые гормоны в утробе матери каким-то образом влияют на то, как мозг строит для себя план. И это может быть связано с тем, как мозг расцветает и сокращается. Человеческий мозг достигает пиковой синаптической плотности – когда большинство нейронов наиболее связаны с другими нейронами, – когда нам около двух лет [196]. Затем мозг начинает яростно сокращать свои силы, словно чрезмерно усердный садовник. Глиальные клетки проникают внутрь и поглощают синапсы. Тормозные нейроны начинают глушить сигналы на некоторых путях, эффективно увеличивая силу сигналов близлежащих путей, что немного похоже на перенаправление трафика. Мозг малыша перестраивается, кардинально меняя все, что он уже построил. Одна из теорий развития детского аутизма связана с этим процессом: некоторые ученые считают, что определенные виды аутичного мозга чрезмерно или недостаточно сокращают одни области, вообще не трогая другие.
Мы не знаем точно, когда появилась современная модель развития мозга, но древние Homo sapiens уже были на пути к расширенному детству, учитывая, насколько радикально наш образ жизни отличается от образа жизни шимпанзе и бонобо. Дикие шимпанзе достигают половой зрелости примерно в семь лет. Самки достигают репродуктивной зрелости примерно в десять и впервые рожают в возрасте от десяти с половиной до пятнадцати лет; их считают «подростками» примерно до тринадцати. Между тем у самцов эякуляция начинается примерно в девять лет, но они не достигают полного взрослого веса и физической зрелости до пятнадцати. Поскольку социальные факторы сильно влияют на вероятность зачинания самцом шимпанзе ребенка (здесь имеет значение наличие доступа к самкам), он, скорее всего, будет полностью взрослым к тому времени, когда сможет успешно передать свои гены.
Мы не знаем наверняка, были ли у неандертальцев, несмотря на их более крупный мозг (значительно больше, чем у Прямоходящей и всех Ев до нее, конкурирующий по размеру даже с нашим), детские модели шимпанзе: быстрое взросление (и, возможно, более ранняя смерть). Но если Homo sapiens действительно извлек выгоду из детства в n-й степени, именно это может объяснить, почему нам удалось добиться успеха там, где неандертальцы в конечном итоге провалились.
В настоящее время человеческие мальчики, как правило, к дошкольному возрасту (в возрасте от четырех до пяти лет) догоняют девочек по большинству когнитивных функций, но не все различия исчезают. Как я уже упоминала, девочки, как правило, получают более высокие оценки в школе по всем предметам вплоть до полового созревания. Потом все вылетает в трубу.
Так почему же девочки-подростки, которые раньше превосходили своих сверстников, начинают отставать?