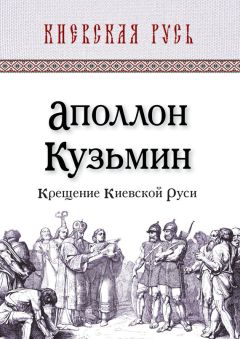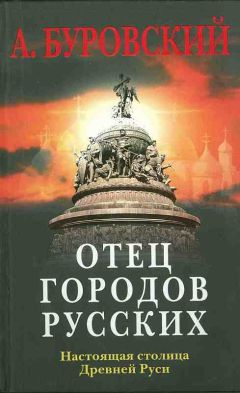Арлен Блюм - От неолита до Главлита
Как говорится, «чистый Оруэлл» (без этого имени нам было не обойтись на протяжении всего нашего повествования!). В чём же причина такого припадка параноидальной бдительности, вдруг обуявшей архивистов? Что это? Самодеятельность? Произвол? Генетический страх, вошедший в сознание на несколько поколений вперёд? Желание проявить свою власть? Наверное, всё вместе. Видимо, сотрудникам архива захотелось пойти несколько «впереди прогресса». Неужели «вновь забилось ретивое», и бывший партийный архив, недаром расположенный в «цитадели революции» — в одном из зданий Смольного, решил снова стать верным хранителем и защитником партийных «секретов»?
И последнее соображение. На протяжении всей книги мы видели, что не только методы физического уничтожения людей, но и механизм убиения слова и мысли представляют большую государственную тайну. Что ж, это может даже в какой-то мере льстить национальному самолюбию, лишний раз подтверждая ставшую уже трюизмом мысль о «литературоцентричности», «логоцентричности» российской ментальности: отсюда, как считается, и великая литература!
Вспомним великого Щедрина… Если слово «библиотека» заменить словом «архив» и перенести события лет на 140 лет вперёд, то, кажется, сказаны его слова сегодня, применительно к описанной выше ситуации. Вот они:
«В конце 50-х годов штатный смотритель училищ завёл было кое-какую скудную библиотеку, и просвещенье в городе на мгновенье просияло; но в 1862 г. оно опять потухло, и просиял навоз».
ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
А вот этого нам знать не дано… Хотя, надо сказать, опасность восстановления «Министерства правды» сохраняется. Многие были поражены тем, что во время первого путча в августе 1991 года в течение нескольких часов на одной шестой части земли была восстановлена жесточайшая цензура. На следующий день после очередного сорвавшегося путча, 5 октября 1993 года, в некоторых газетах появились белые пятна на местах, запрещённых реанимированной предварительной цензурой; возникли как бы из небытия и чиновники бывшего Главлита, вспомнившие свой прежний опыт. Действия цензоров были, как выяснилось, так нелепы и абсурдны, что вызвали волну вполне оправданного общественного возмущения.
Существует ли возможность реставрации цензуры в России?
На этот «риторический», как принято говорить, вопрос прямого, «однозначного» ответа у меня нет. Но, занимаясь уже много лет исследованием истории российской цензуры, я готов поделиться некоторыми соображениями и размышлениями.
Итак, цензура — это «наше всё». Почти как Пушкин, а может — ещё больше. Во всяком случае, старше (как считал герой набоковского «Дара» поэт Фёдор Годунов-Чердынцев, в России цензура появилась прежде литературы). Заглянув недавно в интернет и поискав на слово «цензура», я обнаружил с некоторым удивлением, что эта лексема, то есть слово во всей совокупности его лексических значений, встречается более 20 миллионов раз. Такая частотность говорит сама за себя. Правда, этот термин авторы толкуют вкривь и вкось, часто в метафорическом значении этого слова, понимая под ним любые способы регулирования высказываний и их публикации. В силу многолетней традиции, в силу того, что цензура играла зловещую роль в истории человечества, это слово почти всегда вызывало отрицательный рефлекс. Оно, между прочим, зачастую оказывается удобным, когда требуется скомпрометировать своего политического противника в глазах публики. Тем не менее, как ни странно это на первый взгляд, в нашей стране и в наше время оно неожиданно приобрело положительную коннотацию. Социологический опрос, проведённый недавно, показал, что 57 % населения считает целесообразным введение официальной цензуры[192]. Через три года число сторонников возросло: уже свыше 70 % (!) опрошенных считает, что необходимо вернуться к прежней советской практике, и ратует за те или иные формы цензуры в средствах массовой информации. Правда, эта удручающая цифра нуждается в очень существенной коррекции. В памяти и воображении рядового потребителя информации, отвечающего на вопрос: «Необходимо ли введение цензуры?», тотчас же возникает телевизионная реклама, мешающая ему комфортно смотреть какой-нибудь телевизионный сериал, или слишком откровенные, на его вкус, сцены в кинофильмах. Понятно, что если бы вопрос был поставлен более корректно, например, так: «Согласны ли вы с тем, что необходимо ограничить доступ к информации?» (а цензура занимается именно этим), то результат был бы иным: вряд ли доля ответивших «да» превысила бы несколько процентов, охватывающих голоса совсем уж опустившихся или, как теперь говорят, «отмороженных» субъектов. Но даже с этой оговоркой приведённые данные могут слегка шокировать. Однако, поразмыслив, я пришёл к выводу, что удивляться особенно нечему. Наше общество медленно, но верно возвращается в прежнее, если не худшее состояние. Все эти годы свободы, что бы о ней ни говорили, для подавляющего большинства населения прошли почти бесследно. Вспоминается старый зэк, знаменитый литературовед, дед главного героя романа Андрея Битова «Пушкинский дом». Вернувшийся из лагеря в конце пятидесятых годов, он, присмотревшись к жалкой, вымороченной «оттепели», говорит впавшим в эйфорию интеллигентам, что даже она ненадолго: «У вас же без ошейника шея мёрзнет…»
Как сказал поэт, «наша страна — подросток», я бы добавил: пожизненный, со всеми комплексами этого нежного возраста. Вспомним, что в Англии превентивная цензура, зафиксированная в «Акте о разрешениях», законе, принятом для предотвращения «злоупотреблений в печати», была отменена уже в конце семнадцатого века, а именно — в 1693 году. Вспомним ещё более известного поэта: «Что можно Лондону, то рано для Москвы». В России это произошло ровно на 300 лет позже — в 1993 году, когда появилась Конституция, запретившая цензуру в Российской Федерации. Если не считать двенадцати лет относительной свободы печати в период между октябрём 1905-го и октябрём 1917-го, тот самый, который Горький называл «позорным десятилетием», и примерно такого же срока, выпавшего на нашу долю, Россия на протяжении многовековой своей истории никогда не пользовалась благами и преимуществами узаконенной свободы слова. Замечу, что эта цифра — десять-двенадцать лет — полностью совпадает с той, которая отводится некоторыми историками на время либерализации, модернизации и реформ, проводимых в России, начиная с восемнадцатого века, за чем непременно следует откат, сопровождаемый в лучшем случае застоем, а в худшем — тотальным террором.
Но не только массовый читатель или зритель ностальгирует по цензуре, да и по другим охранительным институтам советского времени, с которыми ассоциируется желанное слово «порядок». И в годы «перестройки», и даже в наше время порою звучат ностальгические «плачи по цензуре», исходящие из круга самих писателей, правда, тех в основном, которые были в своё время прикормлены властью, обеспечены большими тиражами и другими благами в качестве «инженеров человеческих душ». По их словам, на оселке цензуры советского времени они якобы оттачивали и совершенствовали своё мастерство, прибегая к «эзопову языку» и другим ухищрениям. Цензура, по их словам, помогала им воспитывать в читательской среде искусство «метафорического чтения», вызывая определённые аллюзии, цепь опасных и нежелательных сближений. Голоса в пользу реставрации цензуры раздаются с самой неожиданной стороны. Понятно, когда это слово вызывает ностальгию среди названных выше писателей, но вот, например, Александр Минкин, молодой ещё сравнительно журналист, пользовавшийся все эти годы благами и преимуществами свободы слова, в газете «Московский комсомолец» опубликовал целую серию статей (возможно, в целях эпатажа) в защиту цензуры[193].
Эта, надо сказать, весьма популярная в последнее время точка зрения вряд ли имеет под собой какие бы то ни было основания и восходит к народнической ещё установке девятнадцатого века: «Чем ночь темней, тем ярче звёзды». Цензура — особенно в той форме, которую она приобрела в советское время, — одно из самых страшных изобретений человечества, она не содержит в себе никакого положительного опыта, как, по утверждению Варлама Шаламова в «Колымских рассказах», нет его для человека и в лагерной жизни. Настоящему художнику слова нет надобности создавать себе внешние препятствия для полноценного творческого само-осуществления; говоря попросту, он придумает сам себе такую «зубную боль в сердце» (Генрих Гейне), которую ему не доставит ни один, самый жестокий и изощрённый цензор.
На все эти «плачи» следует ответить словами М. А. Булгакова, возвысившего свой голос против всевластия цензуры в знаменитом отчаянном письме в Коллегию ОГПУ с требованием отправить его «Правительству СССР» (март 1930 года). Примечательно, что первый читатель этого письма Генрих Ягода особое внимание обратил на следующие две фразы, жирно подчеркнув их: «Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призыв к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода…»[194]