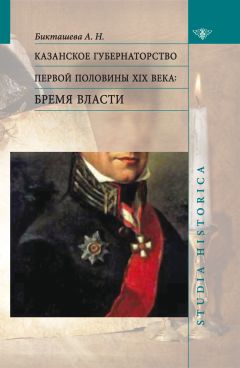Владимир Вальденберг - Древнерусские учения о пределах царской власти
4. Гармония властей
В споре между двумя главными направлениями, которые характеризуют русскую общественную жизнь конца XV и начала XVI в., – между иосифлянами и заволжцами – пришлось принять участие и Максиму Греку. Его постигла та же участь, что и Вассиана Патрикеева, главного представителя заволжцев: он был осужден церковным судом и так же, как Вассиан, заточен в монастырь. Обвинения ему были предъявлены почти одинаковые с Вассианом, и обвинял их обоих митр. Даниил, духовный наследник Иосифа Волоцкого. Это послужило основанием для историков литературы причислять Максима к партии заволжцев, считать его как бы главой и вдохновителем партии [583] . Немало содействовало этому взгляду на Максима и то, что он с самого своего приезда в Москву попал в кружок людей, враждебно настроенных к правительству; а так как и заволжцы находились в оппозиции, то это сближало его с ними. У него и на самом деле было с ними много общего. Но многое их и разделяло. По многим вопросам Максим держался взглядов более примирительных, чем заволжцы, в некоторых случаях он отчасти даже приближался к иосифлянам, в других – он стоял совершенно особняком, высказывал свои особые воззрения. Поэтому едва ли не правильнее будет считать, что он являлся представителем особого направления, до известной степени своеобразного и во многом более умеренного, чем направление заволжцев [584] . В этом не трудно убедиться, если сопоставить мнения Максима со взглядами заволжцев по наиболее важным для них вопросам.
Нужно сказать, прежде всего, что сочинения Максима Грека до сих пор не приведены в надлежащий порядок и недостаточно изучены. Относительно большинства сочинений его мы не знаем ни хронологии, ни обстоятельств их написания; неизвестно даже имеем ли мы подлинные сочинения или их переводы [585] . Поэтому мы почти лишены возможности пользоваться известными нам фактами биографии Максима для объяснения его сочинений. А так как иногда в них встречаются противоречия, то приходится или оставлять их вовсе без объяснения или примирять почти исключительно диалектическим путем. Одно из таких противоречий встречается в вопросе об отношении к еретикам.
На суде митр. Даниил обвинял Максима в том, что он порицает московское правительство за предание еретиков проклятию [586] . Отсюда можно было бы заключить, что он был вообще против каких бы то ни было решительных мер воздействия на еретиков, потому что эта мера, как известно, была не самая решительная из тех, какие к ним применялись. Но сочинения его говорят другое. Правда, Максим высказывался вообще против принуждения в делах веры. В «Слове обличительном на агарянскую прелесть» он порицает магометан за то, что они мечом распространяют веру своего пророка. В этом он видит доказательство того, что магометанская вера от диавола, так как Бог «не хощет смерти грешного… и ни единою нудит ниже убивати кого велит». Он вспоминает и ответ Спасителя сыновьям Заведеевым, предлагавшим истребить огнем самарянское село [587] . Этот взгляд, несомненно, сближает Максима Грека с заволжцами, которые тоже в принципе стояли за полную религиозную свободу. Наоборот, у Иосифа Волоцкого можно встретить отдельные мысли, напоминающие католическое «compelle intrare»; так, например, он с одобрением говорит о царе Ираклии, который «не хотящих креститися июдей повеле оубивати» [588] . Но в частном вопросе об отношении к еретикам и еретическим обычаям Максим сходился не с заволжцами, а с Иосифом. В слове на Исаака-Жидовина (ок. 1525) он советует собору принять против него самые решительные меры. Моисей, говорит он, велел левитам беззаконновавших «убивати оружием вся по ряду», и он предлагает собору возлюбить «равность Финеесову похвальную» и смущающих паству предать «внешней власти на казнь» [589] . Тот же взгляд он высказывал и гораздо позже, в послании к Адашеву о тафьях. Там он тоже вспоминает Финеесову ревность и советует «запретить крепце» неправославный обычай [590] . Как примирялись эти различные мысли в миросозерцании Максима, сказать трудно. Может быть, противоречие объясняется тем, что в одном случае он обличал религиозное заблуждение, имевшее очень мало связи с действительностью, и он мог подойти к нему с отвлеченной, теоретической стороны, а в другом – ему приходилось решать вопрос, имеющий большое практическое значение. Но в этом последнем случае он выражается настолько определенно, что его слова не оставляют никакого сомнения, и если уже не ставить его в разряд единомышленников И. Волоцкого, то нужно все-таки признать, что он занимает положение, отличное от заволжцев.
Такое же особое место должно принадлежать Максиму Греку и в вопросе о монастырских имуществах. Всякому, кто вдумывался в религиозно-философское миросозерцание Максима, должно представляться маловероятным, чтобы он был безусловным и решительным противником этих имуществ. Он много размышлял о внутреннем смысле христианства и о требованиях, которые оно налагает на человека. И один вопрос при этом особенно привлекал его внимание. Что важнее в христианстве: его теоретическая или практическая сторона, его догма или его нравственное учение? Что важнее для спасения – вера или дела? Мысли, относящиеся к этому вопросу, встречаются у Максима во множестве, чуть не во всех его сочинениях, и всюду он разрешает его в одном смысле: дела важнее веры , нравственная сторона имеет преимущество перед догматической и обрядовой. Не посты и бдения, не молитва спасают нас, а «к нищим и в бедах и в скорбех живущим человеколюбие и милость и сострадание». Сказано: милости хочу, а не жертвы, и потому только «евангельских заповедей прилежно делание» оправдывает человека, а не «вера или крещение и черное рубище» [591] . Это сразу определяет отношение Максима к заволжцам и иосифлянам. Нил Сорский сущность иноческого подвига видел в постоянном самоуглублении, в умной молитве; все симпатии его были на стороне отвлеченного аскетизма, он требовал от каждого непрестанной заботы о своей душе [592] . Совершенно иначе понимал задачи монашества И.Волоцкий. Он думал не о самоуглублении, а о деятельной помощи всем нуждающимся. Он заботился об увеличении монастырского богатства, но жизнь в его монастыре отличалась, как известно, большой суровостью: пища, одежда, вся обстановка, в которой жили иноки, были самые скромные. Богатство шло не на монастырь, а на бедных. Иосиф помогал окружным крестьянам во всех трудных случаях их хозяйственной жизни, а в неурожайный год в монастыре кормились тысячи людей; когда же запасы монастырские истощились, и братия должна была сократить и без того скромную трапезу, тогда богатые люди, узнав об этом, поспешили наделить монастырь всем необходимым [593] . Можно сочувствовать или не сочувствовать иосифлянам, но нельзя отрицать, что в основе такого понимания монашества лежит целая общественно-политическая программа. Задача монастырей по этой программе состоит в содействии правильному распределению народного богатства, в посредничестве между имущими и неимущими классами. Максим Грек, требуя сострадания к нищим, должен был вместе с тем сочувствовать и такому пониманию монашества. Но оказывать людям действительную помощь монастырь может только в меру своего богатства, и потому Максим не должен был бы решительно восставать против монастырских имений. Между тем в сочинениях его находим горячую проповедь нестяжания. Как это объяснить?
Максим был убежден, что богатство есть нравственное зло. Он не мог представить себе богатство, чтобы воображение не рисовало ему тех неправд и насилий, которыми оно добыто. Богатство, по его мнению, может быть приобретено только «богомерзкими росты», «скверными прибытки», всяким лихоимством; в основе его непременно лежит бесчеловечное отношение к слабым [594] . Вот почему он советует всякому, кто заботится о своем спасении, продать имение и жить только своим трудом [595] . С другой стороны, он был решительно против пользования чужим трудом, в особенности – против труда крепостного [596] . И вот, если рассмотреть главное сочинение Максима Грека, в котором он нападает на монастырские имущества, – «Стязание о известном иноческом жительстве» , где его взгляды излагаются в виде диалога между любостяжательным и нестяжательным, то окажется, что все его доказательства здесь сводятся к тому, что инокам, отрекшимся от мира, неприлично пользоваться теми безнравственными средствами, которыми добывается богатство. Все речи нестяжательного состоят из обычных для Максима рассуждений о «бедных селянах», изнывающих под непомерными ростами, о неправдах и лихоимстве, и когда противник его высказывает принципиальное соображение: «не зло богатство устрояющим е добре», то ему нечего на это возразить [597] . Следовательно, он борется, собственно, не против монастырского имущества, а против тех несправедливостей, с которыми оно неизбежно, по его мнению, связано; и если бы кто-нибудь сумел его разубедить в этой неизбежности, может быть, он и перестал бы спорить. Максим написал еще другое сочинение на ту же тему: «Повесть страшна и достопамятна и о совершенном иноческом жительстве », где он изображает быт картезианского монастыря. Оказывается, что каждый вступает в него, «мала стяжаньица монастырю отделивше», и что всякий день настоятель назначает нескольких монахов для сбора подаяния [598] . Припомним, что у Нила Сорского как раз есть сочинение «О иноках, кружающих стяжаний ради» [599] , и мы должны будем признать, что Максим Грек не был безусловным противником монастырского имущества и только требовал, чтобы оно служило исключительно для благотворительной деятельности, а не для самоуслаждения [600] , и что, следовательно, и в этом вопросе он занимал место не в ряду заволжцев, а где-то посередине между ними и иосифлянами [601] .
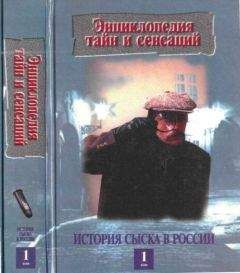
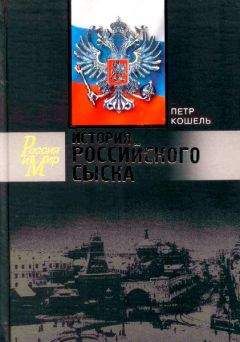
![Дмитрий Бантыш-Каменский - История Малой России, со времен присоединения оной к Российскому государству при царе Алексее Михайловиче. Часть 1 [Издание 4]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)