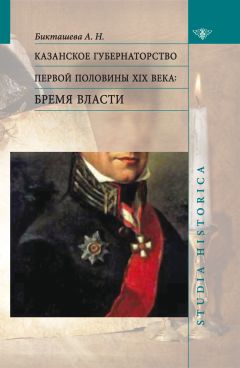Владимир Вальденберг - Древнерусские учения о пределах царской власти
Как одна из заповедей, ограничивающих царя, и вместе с тем как один из возможных поводов для столкновения между мирской и духовной властью, особенное внимание автора привлекает, разумеется, неприкосновенность церковного имущества. Оно – Божие, «Богови данное», отнять его у церкви – значит «отимати у Бога яже Божиа суть» [564] . Автор приводит многочисленные примеры, преимущественно из византийской истории, нарушения целости церковных достояний, причем оказывается, что ни один из этих случаев не проходил бесследно для царей, которые посягали на имущество церкви [565] . В числе доказательств неприкосновенности церковных имуществ «Слово» выставляет так называемое вено Константиново. Мы не находим здесь, как и в предшествующих памятниках, где это доказательство встречается, полного текста подложной грамоты Константина Великого папе Сильвестру. Автор только сообщает, что этот император дал римской церкви «многа благая, подвижнаа и неподвижнаа», и затем делает небольшую выписку из грамоты. Выписка заключается словами: «И прочая… яже зде продолжно есть вся слово в слово вписати» [566] . Вероятно, это нужно понимать так, что полный текст грамоты автор предполагал вставить при представлении своего трактата тому лицу, которого он должен был убедить в незаконности всяких посягательств на церковное имущество. В числе государей, подтвердивших грамоту Константина Великого, «Слово» называет «римских царей» Людовика I, Карла Великого, Оттона 1 и Генриха I. Есть ссылка и на русскую историю, именно на св. Владимира, установившего десятину в пользу церкви [567] .
С учением о задачах и пределах царской власти «Слово» связывает учение об идеале царя. Ссылаясь на б гл. Прем. Сол., ту самую, из которой было составлено «Слово Сирахово на немилостивые цари», автор говорит, что без мудрости «добре правити мирьстии господа не могоуть». Это заставляет его вспомнить мысль Платона о философе на царском престоле. «Тогда бо добре оуправляется дело народское, едва философи царствоуют, и царие пророчествоують » [568] , читаем в «Слове». Но напрасно было бы думать, что перед нами действительное повторение идеи, провозглашенной греческим философом. Во-первых, между государственным устройством, начертанным в творениях Платона, и тем, которое предлагает «Слово кратко», очень мало точек соприкосновения. Платон мечтал о царе-философе, который управляет народом в соответствии с теми вечными идеями, какие открывает ему созерцание потустороннего мира [569] ; следовательно, его философ пользуется властью вполне неограниченной. «Слово» же ставит царя в точно определенные границы и под строгий контроль духовной власти, а этот контроль не имел бы никакого значения, если бы царю было предоставлено управлять государством по вечным идеям, как он их понимает. Во-вторых, и это самое важное, философию и мудрость автор понимает здесь в таком смысле, который имеет очень отдаленное отношение к Платону. Он говорит по этому поводу, что царь должен быть милостив и праведен, должен истреблять «беззаконных и неправедных», но главное для него – «церковь с пастырми любить и чествовати, милость бо и истина хранят царя» [570] . И далее автор подробно распространяется об отобрании церковных сел и о «претыкании» пастырям. Следовательно, философия имеет здесь свое особое, чисто практическое содержание. Царь, о котором мечтает «Слово», может быть назван философом в том только смысле, что он понял необходимость во всем покоряться своему пастырю и черпать мудрость из его наставлений. И все выражения, в которых автор характеризует истинного царя, нужно принимать с этим значением и с этими необходимыми оговорками [571] .
Противоположность истинному царю составляет тиран или, как называет его «Слово», мучитель неправедный, злой хищник , волк. Истинному, «добродетелному» царю подданные оказывают «любовное служение», мучителю же они «работают не от любви, но от страхоу» [572] , и царство его «несть царство » [573] . Признаки, характеризующие мучителя, очевидно, составляют отрицание тех, которыми определяются свойства истинного царя. Но, как и можно было ожидать, автор выдвигает в качестве главного, отличительного признака мучителя нарушение правильных отношений к духовной власти. Царство перестает быть царством и становится мучительством тогда, когда царь не повинуется пастырям своим, а еще более тогда, когда он похищает «священич чин», как ветхозаветный царь Озия [574] . Об отношении подданных к мучителю «Слово» нигде определенно не говорит, но нет сомнения, что к нему именно относятся те места, приведенные выше, где обсуждается возможность столкновений между мирской и духовной властью. Если при этих частных столкновениях, т. е. при неисполнении царем каких-нибудь заповедей пастыря, нужно слушаться духовной власти, а не царя, то ясно, что мучитель, который неповиновение своему пастырю возвел в систему, не может вовсе рассчитывать и на повиновение народа себе. Народ свободен от этой обязанности, и если он все-таки оказывает повиновение, то только «от страху».
Полную параллель этому учению о царе и мучителе образует в «Слове» учение о двух родах пастырей. Есть пастырь добрый, который, по евангельскому выражению, полагает душу свою за овцы своя. Он заботится не только о душевном спасении вверенного ему стада, но и о наделении его «внешними благами». Поэтому главный предмет его стараний церковные села, «стяжаниа и сокровище церковное» [575] . Это сокровище он защищает даже до кровопролития. Он борется с мирской властью, посягающей на него, «свободным гласом и храбрее»; поэтому он «от властей мирьских бесчествоуем бывает и пакы от седалища своего изгнан бываеть» [576] . Совсем другое – пастырь «недобрый». Это наемник, который пасет свое стадо не ради любви, а за временную мзду. Он ищет «славы мирской» и получает ее от мирской власти. Он не смеет противиться «насильникам», потому что боится потерять внешние блага. При таком пастыре мирская власть получает полную свободу действий, она нарушает все божеские законы и присваивает себе права на церковное достояние [577] .
Таково, в кратком анализе, государственное учение, которое находим в разбираемом памятнике. Какие бы ни видеть в нем недостатки, нельзя отрицать в нем строгой продуманности и единства мысли. Здесь все вытекает из одной идеи, все на своем месте, все отдельные части друг с другом связаны, друг друга дополняют. В этом отношении, пожалуй, во всей русской политической литературе предшествующего времени не найдется ни одного произведения, которое можно было бы поставить на один уровень с этим. Возьмем ли мы произведения инока Акиндина, Кирилла Белозерского, даже Иосифа Волоцкого, нигде основная мысль не проведена в таких подробностях, и нигде все частные мысли не вытекают с такой прямолинейной последовательностью из принятого начала. Если обратить внимание на эту формальную сторону дела, то можно будет сказать, что «Слово кратко» не столько заканчивает собой ряд произведений древнерусской политической мысли, сколько начинает новый их ряд, напоминая по единству мысли сочинения Ивана Грозного и Курбского, по обширности – сочинения Крижанича. Принимая догадку, что автор «Слова» был иностранец, которому поручено было составить рассуждение на определенную тему, можно этот особый характер произведения объяснять – если не вполне, то отчасти – оторванностью автора от жизни и академичностью поставленной задачи.
Труднее определить отношение рассматриваемого произведения к предшествующей литературе по содержанию его идей. Прежде всего, бросается в глаза сходство с И. Волоцким в конечных выводах. Оба писателя говорят об ограниченной царской власти, оба устанавливают ограничение царя законом Божиим, и оба в случае нарушения этих границ освобождают подданных от повиновения. Есть различие, конечно, и здесь. Тиран И. Волоцкого – не совсем то, что тиран, каким его изображает «Слово кратко». Первый – это царь, находящийся во власти пороков, слуга диавола, пораженный неверием, угнетающий свой народ; второй – просто вышедший из повиновения духовному чину монарх. Освобождение подданных от повиновения царю имеет у обоих авторов тоже различный характер. У Иосифа подданные должны просто не слушать тирана, когда он ведет их на нечестие и хулу, но никакой другой власти они при этом не подчиняются; в «Слове» же подданным приходится постоянно следить за согласным действием обеих властей, и, если они увидят противоречие между повелениями царя и наставлениями пастыря, им надлежит отдать предпочтение вторым. Но, в общем, при сравнении обеих теорий можно подметить между ними больше сходства, чем различия. И это тем более удивительно, что основные начала, из которых они исходят, диаметрально противоположны друг другу. И. Волоцкий исходит из подчинения церкви и церковных дел государству: царь для него – верховный защитник в церковных обидах, он следит за благочинием в монастырях, он блюдет стадо Христово от волков, наказывает еретиков и отступников. Автор «Слова», наоборот, стоит за свободу церкви от государства и не предоставляет царю решительно никакого влияния на ход церковных дел. Правда, и у него царь обнажает меч на врагов церкви, но он делает это не по собственному праву, как у Иосифа, а по поручению и указанию духовной власти; и меч свой он получает не от Бога вместе со своей властью, а от церкви. Это сходство в выводах при различии в основаниях можно, однако, объяснить. Автор «Слова» держится одного начала и неуклонно его проводит, между тем у И. Волоцкого, в сущности, не одно, а два основных положения: с одной стороны, подчинение церкви царю, а с другой – подчинение самого царя закону Божию и церковным постановлениям. Если принять это в соображение, то нетрудно будет заметить, что его учение о пределах царской власти представляет вывод не из подчинения церкви государству, а из подчинения царя некоторым нормам, т. е. из начала, очень близкого к тому, на котором построена вторая теория.
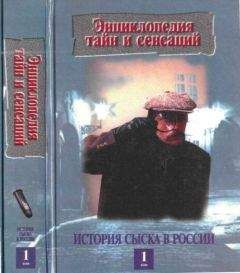
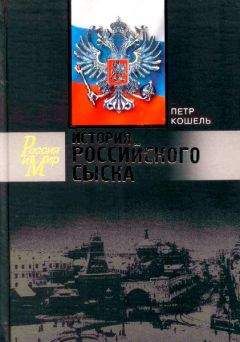
![Дмитрий Бантыш-Каменский - История Малой России, со времен присоединения оной к Российскому государству при царе Алексее Михайловиче. Часть 1 [Издание 4]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)