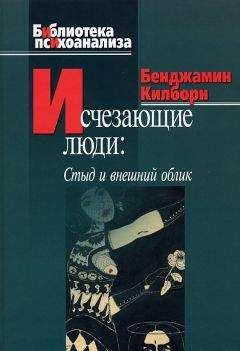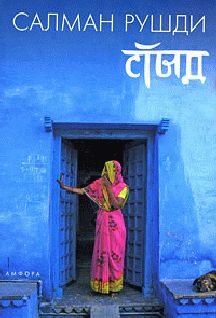Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер
Такова, по-видимому, высшая степень писательского стыда: разрушительное стремление к самосохранению, которое погубило бы писателя, вечно недовольного собой, слишком робкого, озабоченного тем, чтобы никогда не привлекать к себе внимания. С этой точки зрения отказ от писательской карьеры (достойный похвалы как показатель сдержанности и скромности и который, нельзя не признать, компенсирует негативное впечатление от наводняющих издательства книг писателей-графоманов, от этих часто поднимаемых на смех досужих писак, этих авторов-любой-ценой, которые, не в силах противостоять искушению, в отчаянных и безнадежных поисках признания, пописывают эфемерные книжки, забываемые сразу после выхода в свет) — этот отказ, возможно, есть также признак трусости. Автор пошел на поводу у окружающих, не захотел сжечь мосты, ему не хватило той настойчивости, которая как раз и делает, против всего и вопреки всему, человека писателем.
А сколько еще авторов отступилось, опубликовав первую книгу, почти полностью проигнорированную, — так случилось с «Тропизмами» Саррот и с «Созерцанием» Кафки. Какой тайный демон внушил упорство Беккету, который сорок раз добивался внимания издателей? Сколько других на его месте окончательно усомнились бы в себе, после того как их столь настойчиво отвергли? «Богоматерь цветов» Жене в самом начале, до 1953 года, существовала лишь в тридцати пяти экземплярах, которые практически невозможно было достать. Чтобы в таких условиях продолжать впрягаться в работу над своими сочинениями, нужно больше, чем упорство.
Во внутреннем механизме того, что мы называем творчеством, упорное в своем мнении «я» должно постоянно сталкиваться с «я» скептическим: из этого могут выйти как посмертные тома в серии «Плеяды», так и неудачные эссе. Но — при условии, что мы идеализируем призвание вслед за Мальро, — можно ли когда-нибудь с уверенностью знать заранее, какое из двух «я» одержит верх в этом бою? Разве нельзя представить себе какого-нибудь радикального Кафку или дошедшего до конца Вергилия, которые осуществили свою навязчивую идею, сожгли все после себя, не позволили, чтобы их завещание было не выполнено? Или даже «писателя» без произведений, беспомощного, окончательно сдержавшего себя, оказавшегося полностью во власти стыда — настолько, что он приговорил себя к молчанию, лишив нас, возможно, самых прекрасных книг на свете?
Часть V
Фрагменты дискурса стыда
Красный — основной цвет жизни.
Краска стыда возвещает зарю
внутреннего бесстыдства.
Кто краснеет, знает несколько больше,
чем должен был бы знать. Поль Валери
С тех пор как я начал писать эту книгу, я столкнулся с преходящей, надеюсь, манией: собирать случаи стыда в мире, как собирают этнографические свидетельства. Падкий на чужой стыд, приобретя определенный опыт в этих делах, я, кажется, с десяти метров могу распознать вытесненный стыд, скрывающую внутреннее убожество клоунаду, запутавшегося обманщика или ячейку общества, парализованную скрытыми тайнами. Во время своих многочисленных путешествий к основам жизненных унижений я описал столько разновидностей стыдливцев, что вы вполне можете обнаружить там и себя — вы, человек, казалось бы, не знающий стыда, и вы, лже-беззаботница, — равно как и всех тех, кто до сих пор думал, что им удается скрывать собственное притворство.
Подобно посмертным воспоминаниям и неожиданно обнаруженным старым пожелтевшим фотографиям, постыдные случаи охотно всплывают задним числом. Ими делятся. Они беззаботно проходят строем, один за другим. Это идет на пользу всем: тому, кто говорит, и тому, кто слушает. При условии, что их рассматривают с должной анонимностью, что ими обмениваются, от них избавляются, им уделяют ласковое внимание, их уважают, как старых друзей, с которыми теперь можно говорить практически обо всем: в некотором смысле это нас больше не касается. Речь идет о мире как таковом.
* * *
Моя мать была уже немолода, — рассказывает Г. — она действительно старела, у меня были подружки, у которых были молодые и красивые мамы, так что я говорила им про мою мать, что это моя бабушка.
Неизвестный 1: Мне было стыдно, что отец привозит меня к школе на своем ржавом «Рено 4», и я просил его высаживать меня на углу улицы, далеко от школы, и потом убегал, словно в чем-то провинился.
Неизвестный 2: Я стыдился своего отца, вечно носившего старомодную одежду.
Неизвестная 1: Я так стыдилась обветшавшего дома, где находилась квартира моих родителей, что по дороге из школы всегда останавливалась, прощаясь с подружкой, возле красивого многоквартирного дома, где жили одни богачи. Я ждала в подъезде, стояла там, внутри, несколько минут, пока подружка не отходила достаточно далеко, и осторожно возвращалась в свою трущобу.
Неизвестная 2: А я стыдилась своей улицы и говорила, что живу на другой, более шикарной.
В семь лет С. зверски убила ежа. Она жестоко била его, остервенело на него нападала, сначала несколько раз ударила камнем, затем башмаком, пока зверек не превратился в кровоточащую массу. Их было, как она рассказала мне, несколько детей, но в ее воспоминаниях именно она руководила всей операцией. Сегодня эта сцена по-прежнему внушает ей стыд. У каждого свой еж.
* * *
Я работала машинисткой, мне было семнадцать лет, я твердо решила, что не останусь машинисткой всю свою жизнь, ма-ши-нист-кой, всю жизнь стучать на машинке, вся жизнь в конторе, нет, правда, что я хотела, так это быть художницей, впрочем, без отрицательных сторон этого занятия, то есть не рисовать и не писать красками без конца — помимо всего прочего, это казалось мне выше моих способностей, но в то же время ниже моих стремлений и моего бесконечного энтузиазма, нет, определенно у меня и тогда, и всегда было другое представление об искусстве: мне нравились их одежды, обстановка, манеры, нравилась окружающая художника пышность и то, как он работает, вдали от всяких контор, к тому же я себя видела скорее на картине, я принимала участие, но не делала ничего, я любила, когда на меня смотрят, но не как на машинистку и не только как на модель в школе изящных искусств, хотя я тем не менее очень охотно этим занималась за гроши, именно так я совершенно естественно стала художницей, да, художницей, пусть на свой лад: я купила папку для рисунков, чтобы убежать от стыда, угрожавшего моей жизни, жизни обыкновенной девушки, девушки из конторы, эта папка для рисунков стала моей эмблемой, я повсюду ходила с ней, по улице, в метро, и к тому же у меня было то, что называют вкусом, я одевалась на барахолках, люди сразу говорили себе, это художница, и я сама почти в это верила, репутация в своих собственных глазах создается быстро, и я, еще очень молодая, попутешествовала по свету, я жила с фламандским художником во Фландрии, среди лугов и коренастых рабочих лошадок, но я быстро разочаровалась, поверьте мне, мой художник пил, но я продолжала, продолжала тысячей способов силиться сделать из своей жизни произведение искусства (и мне сейчас кажется, что это еще сложнее, чем просто создать произведение искусства), хотя я очень люблю живопись, старалась убежать от судьбы машинистки (кроме того, эта профессия быстро пришла в упадок), но впереди мне грозили и другие испытания, и когда же на меня действительно обратят внимание?
* * *
Я никогда не хожу в кафе одна, — говорит мне Б. — А поскольку я живу одна, я никогда не хожу в кафе и еще реже — в ресторан… Это напоминает мне о признании Сержа Дубровского: «Я никогда не смог бы никуда пойти вечером в компании одного только себя. Я вижу это так: пятидесятилетний человек словно на карантине. Хилый, болезненный, потягивающий в углу свое божоле, в сентиментальном тет-а-тет со своим рагу, не в силах даже достать себе проститутку! Бедняга. Неспособный даже найти себе друга. Когда я замечаю такого в ресторане, у меня разрывается сердце. Еда, бутылка — это как любовь: это хорошо только вдвоем, этим нужно делиться. Я разделю свой ужин с самим собой. У себя дома, где никто на вас не смотрит, можно не считаться ни с кем».