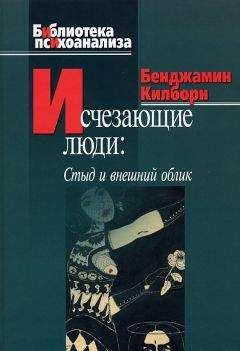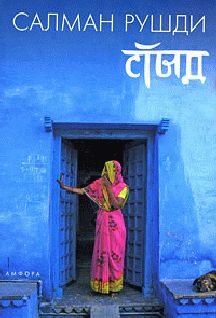Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер
Писатель на смертном одре
(Брох, Аппельфельд, Цорн)
Нельзя сжечь вкус к сочинительству. Фриц Цорн
Отречение автора от собственных произведений — удел не только писателей. Вспомним Сезанна, который отказывался от своих полотен, рвал их яростными ударами ноги. Или Сутина, обходившего торговцев и скупавшего у них свои юношеские творения, которые он считал неудачными, чтобы потом искромсать их и вырвать из рам. Рассказывают, что Бэкон уничтожил почти все свои полотна, созданные до 1942 года. Стыд художника, конечно, более зрелищен, чем стыд писателя. И тем не менее мания отречения от собственных произведений представляется, по крайней мере в XX веке, особенно характерной для литературного творчества.
Под стыдом, преследующим писателя подобно навязчивой фантазии, под муками совести, которые автор испытывает по поводу своих произведений, может скрываться исключительная мания величия. И если перспектива смерти, а тем более самоубийства соединяется вето воображении с вопросом о том, что он оставляет после себя (только слово прощания, последнее слово? все сочинения, спасенные словно в Ноевом ковчеге от потопа? записные книжки? личные дневники? письма?), то это потому, что он по-прежнему переоценивает свою миссию и придает слишком большое значение своим честолюбивым устремлениям. Уильям Стайрон рассказывал, как однажды во время депрессии, подтолкнувшей его к составлению плана самоубийства, он упаковал свою записную книжку в бумагу, прежде чем бросить ее на дно мусорной корзины, после чего его сердце заколотилось как сумасшедшее, «как сердце человека перед расстрельной командой», — поскольку он думал, что таким образом принимает необратимое решение.
Но когда человек нашего времени, после Освенцима, Колымы и Хиросимы, мучается угрызениями совести по поводу того, что он написал, то это вызов уже не только эстетический или личный. Здесь играет роль ощущение природной неспособности что-либо сделать, глубокой неудовлетворенности, которое благодаря литературе возникает в отношении писателя к миру и к Истории.
Вот три книги, в которых мучительное отношение автора к своим произведениям является центратьной темой: Брох в «Смерти Вергилия», Аппельфельд во «Времени чудес», Фриц Цорн в «Марсе» показывают, каждый по своим причинам и на свой лад. стыд писателя перед лицом реальности. У Броха и Аппельфельда неотвратимый и принудительный характер Истории противопоставляется литературе как целесообразности без цели. У Цорна драма существования, терзаемого, несмотря ни на что, постоянно возрождающимся желанием писать, разыгрывается и осмысляется через осознание хронической неполноценности письменного текста по отношению к жизни.
* * *
Момент, когда, по словам Гомбровича, «поэт-пророк запрезирает песнь свою», этот момент описывает Брох в «Смерти Вергилия». «Я умру, — сказал Вергилий, — может быть, даже сегодня… Но сначала я сожгу „Энеиду“». Вергилий слышал внутренний призыв, столь же настойчивый, как голос вдохновения, призыв к аутодафе: «О! Это был приказ уничтожить все, что он создал, сжечь все, что он когда-либо написал и сочинил; о! ему нужно было сжечь все свои произведения и даже „Энеиду“». Недостойному Люцию, который восклицает, что это было бы преступление и что величие Рима отныне неотделимо от его поэмы, поэт возражает: «Все нереальное не имеет права на существование».
Художник, внезапно очутившийся в конце своей карьеры, больше не способен парить в эфирных небесах, он не может больше верить в идею, воодушевляющую его любителей и почитателей, в идею автономности произведения искусства (произведение искусства самодостаточно, как сказала Вирждиния Вульф по поводу «Тристрама Шенди» и «Гордости и предубеждения»), в идею сверхчувственности или подвижничества художника. С приближением смерти он скандальным образом утверждает, что поэт не может обойтись без службы отечеству. Гораций, говорит он, сражался за Рим как простой солдат, Эсхил выступил пехотинцем в Марафонской битве и Саламинском сражении. А он, Публий Вергилий Марон? Он ни за что не сражался. И его сочинения ничему не служат, в отличие от работ по истории Рима, например, Саллюстия и Тита Ливия, в отличие от ученых изысканий Теренция Варрона. Они одни принесли пользу Риму, заключает он. А раз так, то для чего же заканчивать «Энеиду»?
И если в коние концов Вергилий согласился вновь приняться за работу над своим произведением и посвятить его императору Августу, то это не потому, что он отступился от своей точки зрения, а, напротив, потому, что превзошел самого себя как художника: с одной стороны, он поставил на первое место дружбу с императором, с другой — добился от императора разрешения освободить своих рабов. В обоих случаях Вергилий хотел показать, что ставит любовь к ближнему (новую принятую им христианскую ценность) выше ценности эстетической.
Брох, который вел до того жизнь ассимилированного еврея в межвоенной Австрии, начал писать «Смерть Вергилия» в острый, критический для собственной жизни, равно как и для исторического периода, на который эта жизнь пришлась, момент. В 1938 году, когда немецкие войска вошли в Австрию, его (очевидно, по доносу почтальона) арестовала жандармерия Бад-Аусзее, маленького городка в Альпах, куда он удалился для работы. Броха освободили несколько дней спустя, но это событие его травмировало, сознание беспомощности и страх смерти произвели в его душе переворот. По возвращении в Вену он стал активно готовиться к бегству от нацизма. Благодаря помощи переводчиков ему удалось уехать в Великобританию и оттуда эмигрировать в Соединенные Штаты. В первые годы жизни в изгнании он оставил литературу и забросил все текущие проекты, погрузившись в научные и теоретические изыскания, посвященные современной ему политической обстановке.
«Смерть Вергилия» опубликовали только в 1945 году, за шесть лет до смерти писателя. Центральная тема этого произведения предвосхищает столь часто комментировавшееся высказывание Адорно. Вергилий больше не верит в «язык сумеречных мечтаний, присущий литературе и философии, язык застывших, неродившихся, но уже мертвых слов». Можно решить, что устами Вергилия говорит Брох, отвергая тем самым тезис Канта, что искусство есть целесообразность без цели, а вместе с ним и всю теологию искусства (которую можно также обнаружить в трудах Клее и Мальро) как царства свободы, стремящегося уподобиться божественному акту творения и упиться лишь «пустыми формами, пустыми словами». Это для самого себя Брох отмечает опасность, всегда «обступавшую» Вергилия: опасность «посвятить себя ничтожному искусству и стать литератором». Это в самом себе он вытравляет обнаруживаемое у большинства художников «поклонение» «себе, жадному до знаков почитания», поклонение, составляющее «все более и более постоянное содержание их сочинений, предательство по отношению к божественной природе искусства, предательство, поскольку таким образом произведение становится отрицанием искусства, бесстыдной мантией, скрывающей тщеславие художника». И это о самом себе он думает, когда противопоставляет участие в делах человеческого общества, цель подлинного искусства, «уподоблению черни» и «вероломной приобщенности», к которым ведут уединенность и слепота художника.
И действительно, с 1945 года Брох оставляет литературную деятельность. В одном из писем, говоря о своем отречении от искусства, он пишет: «Необходимо принять как руководство к действию превосходство этического над эстетическим и научиться молчать». Что он оплакивает в эти годы, так это «утрату чувства реальности», любовь к красоте ради красоты. Через образ Вергилия он показывает тактику художника, который не способен оказать помощь окружающим людям и поэтому не способен любить, отвернувшись от живых: он может лишь жить в мире мертвых, неподвижно созерцая человеческую боль, «на пользу памяти, окаменевшей до бесстыдства». Литератор, согласно ему, становится «искателем красоты, но никогда не влюбленным». Если он соизволит взглянуть на ужас происходящего, то опять же для «бесстыдной красоты изображения»: «Не было ничего более глупого, чем ослепленный насмешками стыд угасшей памяти, превратившейся в сладострастие ложной памяти без жизни».