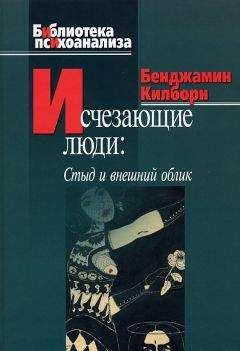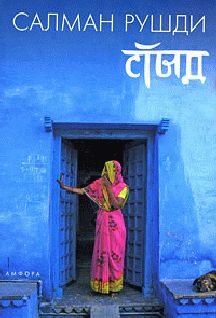Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер
Стыд стареющего холостяка, стыд всеми покинутого юноши, стыд одинокого человека, очевидно лишенного любви: любовь — это капитал, который выставляют напоказ, символическое благо, которого не хватает или которым себя оправдывают.
* * *
Сидя напротив нее за письменным столом, нотариус говорит ей о коллеге-еврее. Я знаю их, этих людей, говорит он ей. Она смотрит на него молча и пристально. Но когда она думает, что видит, какой краснеет, краска бросается в лицо ей самой.
* * *
Стыд по мелким поводам, говорит мне подруга, не дает мне спать так же, как и по серьезным. В этом она едина с Руссо: стыд за свои мысли, как и стыд за свои слова, не имеет ничего общего с объективной ошибкой или сознанием собственной вины. «Я сделал первый и самый тягостный шаг в темном и грязном лабиринте моих признаний. Трудней всего признаваться не в том, что преступно, а в том, что смешно и постыдно. Отныне я уверен в себе; после того, что я только что осмелился сообщить, ничто уже не может остановить меня»[95]. Начиная с этого момента, цепочка признаний запустит поток стыда. В этом лабиринте нет никакой иерархии. Это бесконечный путь с множеством ловушек, затяжной тупик.
Стыд по мелким поводам? На самом деле мелких поводов для стыда не существует. Стыд, подобно поэзии, получается изо всего, он увеличивается не соразмерно с объектом, а в зависимости от того, что об этом объекте говорят. Ничтожные промахи, ненужные угрызения совести, мелкие грешки — весь этот «микростыд» только глубже засасывает в пучину.
Посмотрите, как великолепно описывает Жене в «Богоматери цветов» этот перенос стыда, это замещение основного стыда стыдами побочными, кроющимися в пустяках и громоздящимися один на другой в серии подмен: «Дивину, когда ей было около тридцати, охватила потребность в достоинстве. Ее шокировала любая мелочь: она, в молодости обладавшая наглостью, от которой содрогались бармены, краснела — и чувствовала, что краснеет, — из-за сущего пустяка, напоминавшего, самой хрупкостью символа, те состояния, в которых она действительно могла почувствовать себя униженной. Легкое потрясение — и чем легче, тем ужаснее — отбрасывало ее во времена нищеты. Удивительно, что с возрастом чувствительность Дивины возрастала, тогда как принято считать, что с течением жизни кожа грубеет. Ей в самом деле больше не стыдно было быть пидовкой, торгующей собой. В случае надобности она гордилась бы тем, что она — та самая пидовка, в девять отверстий которой вытекает сперма. Оскорбления женщин и мужчин тоже были ей безразличны. (До каких пор?) Но она потеряла контроль над собой, густо покраснела и, чтобы прийти в себя, чуть было не устроила скандал. Она цеплялась за свое достоинство»[96]. Так, Дивина чувствует себя оскорбленной при распределении остатков пачки сигарет «Кравен», от которого ее отстранили. Она «подумала с еще большим стыдом», — комментирует Жене.
Стыд — это острая ранимость, и он в высшей степени достоин уважения. Это потребность в достоинстве. Не отступление и падение, а скорее стремление превзойти себя, способность не довольствоваться своей репутацией — романтическая неудовлетворенность, порыв.
* * *
Высказывание Левинаса по поводу желания (желание — это акт мышления, простирающийся дальше, чем можно помыслить) применимо и к стыду: стыд — это акт мышления, простирающийся дальше, чем можно помыслить. Это также акт воспоминания, простирающийся дальше, чем можно вспомнить.
* * *
Вы признаётесь кому-то, признаётесь в том, в чем не признались бы никому, именно по той причине, что вы уверены: этого «кого-то», обладателя этих ушей, вы никогда больше не встретите. И вот вы внезапно встречаете его снова. Какой стыд! Вы уже не знаете, куда деваться! Как раз об этом рассказывает Гомбрович в «Воспоминаниях о Польше». Он путешествует по Франции, и одна юная шотландка, пока они едут в поезде, признается ему в некоторых вешах. Признания ее очень подробны, как уточняет Гомбрович, «и в самом деле довольно чудовищны, поскольку в ее семье происходили непристойные вещи, в которых моя шотландка принимала активное участие». В такие признания пускаются только перед тем человеком, которого, нет сомнений, никогда больше не увидишь (Гомбрович ехал в горы, шотландка — к морю).
А несколько дней спустя на пляже в Баньюле Гомбрович снова встретил ту незнакомку. «Мой Бог! Моя шотландка! Из поезда! Сидит на песке в двадцати шагах от меня! При виде меня кровь ударила ей в лицо. А я, поскольку, увы, я легко краснею, когда увидел, что она стала пунцовой, как мак, побагровел, словно томат». И, к несчастью их обоих, они впоследствии постоянно сталкивались нос к носу. «Эта ситуация конечно же смущала ее гораздо больше, чем меня, — бедняжка! Когда я в поезде сказал ей, что еду в горы, она была уверена, что никогда больше не увидит меня, поскольку сама ехала на морское побережье — мы забыли, что здесь пляж и горы были ближайшими соседями. Но хуже всего было то, что ее лицо всякий раз покрывалось краской стыда, отчего я сам тоже краснел — было достаточно ничтожного словечка, которое могло показаться намеком на наш разговор в поезде, и мы оба мгновенно вспыхивали».
Допустить к тайне, быть допущенным к тайне: глагол «допустить» здесь нужно понимать в полном его значении. Пространство тайны, доверяемой кому-то, есть пространство отныне разделенного, обобществленного стыда, от которого оба вынуждены краснеть сообща. У каждого своя шотландка, или, скорее, каждому может довериться какая-нибудь шотландка; более того, знайте, что весь мир заполонен носителями ваших секретов, этими незнакомцами, которых вы встречали и которым беззастенчиво изливали душу.
* * *
Как ускользнуть от этого мира, где окружающие никогда не оставят вас наедине с самим собой? Не стоит ли убить этих людей, всех людей, всех свидетелей? В произведении Бориса Виана «Мертвые все одного цвета» американец Дан, неплохо устроившийся в своей жизни белого человека, неожиданно оказывается под подозрением у своего чернокожего сводного брата, который пришел напомнить ему о его происхождении. Дан пытается заставить исчезнуть этого неприятного свидетеля, источник своего стыда.
«Если бы только в мире не было столько людей», — мрачным тоном говорит в романе Д. Г. Лоуренса сторож охотничьих угодий, которому известно, что стыд вот-вот настигнет его любовницу леди Чаттерлей и который также знает, что в мире больше ни для кого нет уединения, нет возможности удалиться от мира: «Мир больше не терпит отшельников».
* * *
В «Золотом храме» Мисимы, как и в рассказе Сартра «Герострат», сексуальная сцена предваряет террористический акт. Но сама эта сцена, что в одном, что в другом случае, связана прежде всего с опасностью для «я» героя. Персонаж Мисимы, Мидзогути, лишается невинности с проституткой, но одновременно он теряет свою индивидуальность, поскольку проститутка не делает никакого различия между клиентами. «Впервые прямо у меня на глазах мир другого человека сливался с моим. Для этой женщины я был просто безымянным представителем породы мужчин. Я и помыслить не мог, что меня можно воспринимать таким образом. Сначала я снял одежду, но следом меня лишили и всех последующих покровов — заикания, непривлекательности, бедности»[97]. И Герострат тоже пошел к проститутке, но он не хотел быть похожим ни на какого другого посетителя. Поэтому он подчинил ее себе, угрожая револьвером.
* * *
Я кажусь самому себе слишком маленьким, слишком длинным, безобразным, неловким. Я представляю собой сплошное недоразумение, отклонение, которое, я уверен, постоянно бросается в глаза окружающим. Одно из двух: ни слова об этом, и пусть мне ничего не говорят о моем теле; или же, напротив, я действую первым, я предвосхищаю чужие взгляды. Эти две стратегии, должно быть, взвешиваются очень рано, в детстве.