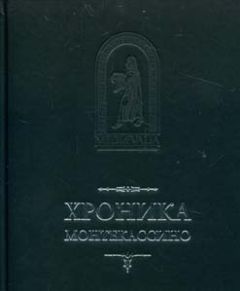Вольдемар Балязин - Русско-прусские хроники
Маэстро был высок ростом, краснолиц, одноглаз и сильно хромал на левую ногу. Он приехал в Кенигсберг из Испании, где, как он рассказывал нам, католикам, воевал на стороне католиков против мавров, но, не будучи хвастливым, не приписывал себе великих подвигов, а честно говорил, что служил простым санитаром.
Джованни был одинок, жил неуютно, а наш дом - теплый, гостеприимный и веселый - всегда оказывался открытым для старого весельчака и рубаки. А как Джованни играл на скрипке! А какие карточные фокусы он знал! Но интереснее всего были его рассказы о необыкновенной его жизни и необыкновенных приключениях в Швейцарии, Италии, Парагвае, Испании.
Тогда я мало что запомнил из того, что он рассказывал моим родителям и бабушке, но хорошо запомнил, с каким восторгом слушали они бывалого старика.
Сначала Джованни заходил к нам довольно редко, "потом зачастил не на шутку", как пела в одной своей любимой народной итальянской песне моя бабушка Анна, а потом я не помню почти ни одного вечера, когда бы Джованни не приходил к нам. Не было ни одного праздника, ни одной пирушки, да и ни одного домашнего дела, в котором бы он ни участвовал. Он стал не просто другом дома, но и его добрым ангелом.
Особенно же заботливым и трогательно нежным он стал после того, как моя матушка родила сразу двух мальчишек, моих братьев - двойняшек.
Это случилось в тот самый памятный не только для нас, но и для всей Европы день, когда корабли безбожного Зигфрида Берксерьера обстреляли Данциг и высадили десант. Однако об этом я расскажу подробнее чуть позже.
Все в Кенигсберге впали в сугубое и глубокое уныние и даже поддались страху и панике. И лишь наша семья, а вместе с нами и Джованни, были веселы и радостны. Протестанты злобно косились на нас, полагая, что мы радуемся тому, что скоро Берксерьер ворвется в Кенигсберг и присоединит и Пруссию к своей Империи, в которую постепенно из-за недавно начатых им захватов превратился его поганый и изначально совсем небольшой Бранденбург. А мы-то просто радовались прибавлению в семействе и гуляли трое суток, как только мама смогла сесть за стол вместе со всеми, и нападение Берксерьера на соседний Данциг было здесь совсем ни при чем.
Старик Джованни был рад не меньше всех нас и предложил назвать мальчиков именами двух героев Италии - Джироламо Савонаролы, великого мыслителя, и Джузеппе Арчибальди - воина и патриота, освободителя страны от Габсбургов.
"Пусть Джироламо станет великим ученым, и пусть Джузеппе станет коннетаблем",- предложил добрый старик, не отрывая восхищенного взора от двух моих братишек, лежавших в колыбельке, стоявшей рядом с табуретом, на котором сидела мать.
Мы все согласились со стариком, а он, прослезившись, подарил два нательных золотых крестика малышам и золотое кольцо их счастливой матери. И чтобы никого не обидеть, подарил бабушке Анне иконку святой Девы, отцу серебряный бокал, а мне - книжку с картинками о путешествиях великого мореплавателя Васко да Гамы.
Здесь следует сказать, что мать моя была под стать отцу - она и пела, и танцевала, и так же, как он, любила застолья и праздники. Да они и познакомились на какой-то свадьбе, сразу же полюбили друг друга, вскоре же обвенчались и в первый же год супружества произвели на свет меня - старшего из трех сыновей.
Наверное, моим родителям больше нравилось делать детей, чем потом заботиться о них, потому что после того, как матушка моя разрешилась мною еще раз прости меня. Господи, за непочтительность к родительнице!- она вскоре снова забеременела и поняла, что если уж не может управиться со мной одним, то где же ей поднимать двоих сразу? Но не было бы счастья, да несчастье помогло: случился выкидыш, и я долгое время оставался единственным ребенком в семье.
А надобно сказать, что новое ее положение не прибавило матушке ни сноровки, ни трудолюбия. Она попала в Кенигсберг всего несколько лет назад с труппой бродячих итальянских комедиантов. В труппе ей поручали небольшие роли, но иногда она играла и разбитную, остроязыкую Серветту и в жизни иногда подражала ей, реагируя на реальные ситуации так, словно все вокруг нее происходящее творилось на подмостках "Комедии делъ арте"20.
В это время у одного из членов нашего прихода, кажется, это был итальянец Джакомо Толедано, случилась свадьба, на которую он пригласил оркестр, где играл мой отец, и туда же позвал он и оказавшуюся в городе итальянскую труппу. Остроязыкая Серветта сразила сердце молодого скрипача де Мара, а что из этого вышло, читатель уже знает.
Отец мой, в отличие от матушки, был местным уроженцем, его предки появились здесь во время первой религиозной войны, начавшейся во Франции, когда мой прадед был еще совсем молодым человеком. Не желая испытывать судьбу, он перебрался в Эльзас, а оттуда добрел до Гамбурга и на каком-то ганзейском корабле прибыл в Кенигсберг.
Здесь прадед женился на местной жительнице - она была чистокровной немкой из порядочной и благочестивой семьи, оставшейся верной католичеству,- и они зажили дружно и счастливо. Родители прабабки приютили бездомного зятя в своем доме, и этот дом и стал приданым их единственной дочери, а дед был гол как сокол, и ничего, кроме себя, в их дом не принес, осчастливив ее только единственным сыном и звучной аристократической фамилией - де Map. Потом по мужской линии вновь произошла такая же история - у деда родился тоже один сын - мой отец, и его назвали на чисто немецкий лад Георгом, потому что дед еще кое-как говорил по-французски, а отец уже знал лишь несколько расхожих слов и фраз вроде "бонжур", "мерси", "силь ву пле"21 и что-то еще в таком же роде.
Матушка же моя к языкам оказалась очень способной, и, когда я родился, она уже могла бойко тараторить со мною по-немецки.
С самых малых лет она стала каждый день водить меня в церковь. Там был и ее и мой второй дом, точно так же, как и для большинства наших единоверцев живших в Кенигсберге.
А по дому управлялась приехавшая к нам из Италии бабушка Анна - мать моей матушки. Если бы не она, то я не знаю, кто бы нас всех кормил, поил, купал, обстирывал и обихаживал. Бабушка Анна приехала к нам сразу же, как только на свет появился я - ее первый внук,- и сразу же на всю жизнь прикипела ко мне своим добрым, но твердым сердцем.
И я сразу же полюбил бабушку, но с годами все больше удивлялся некоторым ее привычкам и чертам характера. Бабушка была добра и часто утаивала для меня самый лучший, самый лакомый кусочек, а то и давала один-два сольди на лакомства или на покупку какой-нибудь игрушки деревянного кинжала или щита из покрашенной жести. И я таким образом мог много раз убедиться, что она по ее малым возможностям щедра и не скаредна.
Однако, что касалось ее самой, то здесь бабушка была совсем другой. Она сметала со стола оставшиеся после еды хлебные крошки в ладонь и аккуратно слизывала их все до одной. Она доедала прокисший суп, даже если его оставалось две ложки, и аккуратно сушила на плите малейший кусочек хлеба и сберегала самую малую подгоревшую корочку, а потом складывала сухари в мешочек и уносила к себе в комнатку. Когда сухарей набиралось довольно много, бабушка брала мешочек и несла его к церкви, раздавая сухари нищим. А потом я заметил, что она - крестьянка с добрым сердцем, выросшая в деревне,- никогда не давала ни кусочка пищи ни бродячим собакам, ни приблудным кошкам, отгоняя их от дома и называя при том "дармоедами".
Только голубей и воробьев кормила она иногда, высыпая на крыльцо хлебные крошки и приговаривая: "Бедные, вы мои, бедные. Где же вам взять, кто же вам что даст?"
Матушка не верила своему счастью, когда бабушка Анна переступила порог нашего дома. Она просто не могла представить, что бабушке удастся выбраться из Италии, где она жила до приезда к нам.
Моим читателям, особенно молодым, трудно будет понять, почему тогда нельзя было уезжать или уходить из одной страны в другую, кроме купцов, моряков, вестонош, гонцов и всяких там нунциев, резидентов и послов.
Дело в том, что римский папа Василиск запретил жителям Папской области уезжать куда-нибудь, кроме других земель Италии, опасаясь, что они выдадут какие-нибудь важные секреты его врагам. А врагов у папы было предостаточно - чуть ли не весь мир. Из-за этого же папа запретил в Италию въезд всем инакомыслящим и исповедующим другую веру, будь то иудей или магометанин, а пуще всего опасался он протестантов, потому что считал, что они хуже язычников, так как с язычников что возьмешь - они и от рождения были язычниками, а вот протестанты - те во сто крат хуже, ибо они и их родители продали Христа и предали его Церковь.
Следует сознаться, что и к нам, католикам, во многих протестантских странах стали относиться с подозрением и- видели в нас папских соглядатаев и лазутчиков.
И потому в Кенигсберге жизнь шла сама по себе, а у нас в общине - сама по себе, почти как в еврейском гетто, тоже сильно обособленном от всех - и от католиков, и от протестантов.