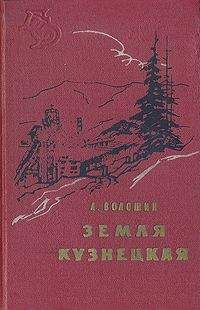Александр Мелихов - Биробиджан - земля обетованная
Боюсь, это его последний разговор и с российским читателем…
* * *Эммануила Казакевича, автора знаменитой «Звезды», рекомендовать не нужно. Хотя, может быть, и стоит задуматься, почему он не вплел в свой шедевр никаких еврейских мелодий. В расчетливости геройского разведчика, пробивавшегося на фронт с риском загреметь в штрафбат, заподозрить трудно. Скорее всего, он стремился в своей балладе избежать психологической и идейной усложненности, с которыми неизбежно связана еврейская тема.
За свою военную прозу Казакевич дважды награждался Сталинскими премиями, но его идишистский биробиджанский период сегодня совершенно забыт. И может быть, напрасно. Советую прочесть его стихотворение и маленькую поэму 1936 года. Как минимум, это документы эпохи.
Земля, на которой я счастливЯ, коня не седлая,
Взлетел на него.
И шарахнулись в стороны
Синие тени.
Я наметом лечу
Среди сказочных гор
По обильному августу
В рыжем цветеньи.
От Биры до Хингана,
Коня горяча,
Мимо пасек,
Пропахших медвяным настоем,
Сквозь смолистые запахи
Кедрача
Я лечу. И я вижу —
Земля моя строит.
Мне навстречу
Выходят мои земляки.
Я приветствую их,
Поздравляя с успехом…
— О-го-го!
Возвращается из-за реки
Их ответ многократным
раскатистым эхом.
И девчата с полей
Мне помашут вослед.
Тракторист улыбнется
Приветливо, щедро.
Я люблю свою землю!
Мне мил белый свет!
В зимовье нахожу
Я смолистые щепки.
Сухари.
И хрустящую
Соль в туеске.
И заботу о том,
Кто придет сюда следом.
В моем сердце
Нет места старухе-тоске,
Залита она ярким
Улыбчивым светом.
Я наметом промчусь
По родимой земле,
Да, она для меня!
И, как тысячи радуг,
Расцветает в душе,
Расцветает во мне
Неизбывная, полная
свежести, радость!
Становлюсь я похожим
На эти края.
Не прохожий,
А общего дела участник.
Полюбила меня,
Присушила меня
та земля,
На которой я счастлив!
Маленькая поэма
1Когда под сердцем трепетным комочком
Забьется песня,
торопясь наружу.
В минуты эти мне теплее ночью,
И сад отцовский расцветает
в стужу.
Я выхожу на площадь,
как в поля,
Июльской ночью, пахнущей укропом.
А подо мной вращается Земля,
Наматывая,
будто нитки, тропы.
В такую ночь хожу я и смотрю
На край,
что мнился мне
таким далеким.
И предо мной встают, как на смотру,
Его хребты,
поля,
разливы, реки…
Меня облепит колдовская тьма.
А купол неба в дырах,
будто сито.
И сознаю я сам:
О, как я мал
Пред тем, что не забыто,
не избыто.
Пахнет в лицо мне запахом
жилья
И свежим хлебом,
на поду печенным.
И заблужусь в ночном
сияньи я,
Приду к речной воде,
густой и черной.
По утреннему городу спешу
К столу редакционному
простому.
За ним совсем немного лет
пишу
О тех, кто этот город
нынче строит.
Вот обогнал я одного
из них
И на ходу взглянул
в лицо пытливо.
Ты — человек. Приподнят воротник.
Улыбка — белозубейшее диво.
Я тороплив.
Мне многое увидеть,
Мне многое запомнить
суждено.
Вот новый дом
встает,
как в сказке витязь.
Вон вальс плывет
в открытое окно.
От радостных улыбок
в мире тесно,
Легли дороги,
в дальний путь маня…
Проходят люди,
и не слышат
песни,
Что родилась под сердцем у меня.
Он был одним
из лучших
зданий города,
Сарай, что выводил
под крышу я.
Он на тайгу глядел
светло и гордо,
По ветру спелым
кумачом звеня.
Шел первомай.
Я шпалы просмоленные
Пустил на мостик,
что к сараю вел.
По ним
шагали первые влюбленные
За речку,
где багул
лиловый цвел.
Они ломали
на букеты ветки
И украшали ими мой «дворец».
А я смотрел на них
с терпеньем редким,
Как смотрит на детей своих отец.
И мой сарай
был кораблем влюбленных,
Несущимся на алых парусах
Туда,
в весенний и вечнозеленый
Мир,
тающий в задумчивых глазах…
Теперь сарай мой
лишь обыкновенный,
Довольно куцый и смешной сарай.
Влюбленные в тайге подняли стены,
И город встал, где был медвежий край.
И былью стало все,
о чем мечтали,
О чем просили: «Еселе, сыграй!»
И он летит сквозь
дымчатые дали,
Дворец мой первый,
первый мой сарай!
Перрон Биробиджанского вокзала!
Взошла твоя счастливая звезда.
Ни водокачки, ни большого зала
Тут не было.
Но были поезда.
Сердито отдуваясь,
привозили
Они народ со всех
концов России.
Вот едут Тунеядовка и Шпола,
Вот Витебск, Минск,
Одесса и Лунгин.
И на вокзале
тяжко
стонут шпалы,
Висят гудки,
протяжны и туги.
Тут матери качают
ребятишек,
Там двое в споре
яростном сошлись.
В теплушках, на подножках
и на крышах
В наш край таежный приезжала жизнь.
С веселыми и грустными глазами,
С плечами просто
и в сажень плечо.
И был перрон толпой густою
залит,
Тут пели
и рыдали горячо.
И лошадей
по сходням выводили,
И выносили сундуки с добром…
И стар и млад —
как молоды мы были!
Нам в шевелюры город серебром
Еще не лег тогда.
Нам всяко будет:
В палатках надрожимся под дождем…
Но никогда, наверно,
не забудем
Вокзал.
Наш первый в этом крае дом…
Уже звенят над городом антенны,
Дрожит над клубом алая звезда.
Я каждый вечер,
каждый, непременно,
Хожу встречать ночные поезда!
Привыкли к взлету
третьих этажей,
На тротуар не смотрим,
как на диво.
И скептики порастеряли
желчь,
А город стал приветливо
красивым.
Привыкли к телефонам
и к тому,
Что на работу не идем,
а едем.
И в скверах «Штерн»,
а вовсе не Талмуд
Читают старики.
Привыкли к детям,
Что целый день
с настырностью грачат
На улицах кричат.
Привыкли к свету,
Что вспыхивает в окнах по ночам
И озаряет заревом планету.
К людской толпе
у театральных касс,
К домам,
встающим из болотной ряски…
Могло ли быть без вас,
без них,
без нас
Такое воплощенье старой сказки?
А город все растет.
Еще вчера
Всех жителей я кликал поименно.
И скверы обходил по вечерам,
Чтоб не спугнуть нечаянно влюбленных.
Вчера я знал,
кому чем досадить,
И чем могу
обрадовать другого…
А нынче столько незнакомых
лиц,
Что я уже теряюсь,
право слово.
О чем мечтали
мы в крутой мороз,
Вбивая в хлябь болота
сваи гати,
Сегодня в нашем городе сбылось,
И счастливы с тобою мы, приятель!
Улыбку моего отца я вижу
В лучах рассветных
над седой Бирой.
И город мой становится
мне ближе.
Он как отец мой — добрый и родной.
О, где мне взять
ту силу
и ту ласку,
Ту правду,
что улыбкой он дарил.
Кончаются немыслимые сказки
У дорогих и горестных могил.
По улицам,
как гулким коридором,
Плывет фрегатом
алый этот гроб.
По улицам,
по улицам,
которым
Он отдал все.
Остыл высокий лоб.
И я один.
И лишь улыбка светит,
Его улыбка светит сквозь года.
Город, просыпаясь на рассвете,
Встречает голубые поезда.
И песня из моей
груди наружу,
Как кровь из раны,
начинает бить.
И сад отцовский
расцветает в стужу,
И клок зари,
как знамя новых битв.
Встает рассвет
над синью
дальних сопок,
Колышет горизонт трава лучей.
Как в сине небо
серпокрылый сокол
Вдруг грянет песня —
лучше и звончей
Той,
что писал я,
что носил —
<???>
И я в ответ бросаю: «Хорошо!»
А он встает
в неровном свете буден,
Наш новый день,
прорвавшийся из тьмы.
Над всем, что было,
и над всем, что будет,
Над городом, который строим мы!
Над нашей верой
в светлые дороги,
Которым нету края и конца.
Идет рассвет, помедлив
на пороге
При входе в город
моего отца!
Хм, «город моего отца»… А не отца народов. Понятно, почему и Казакевич в 37-м лишь чудом избежал ареста, срочно перебравшись в Москву.