Александр Волошин - Земля Кузнецкая
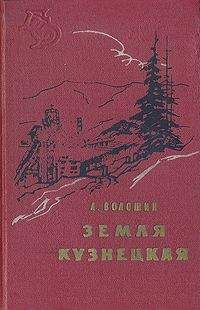
Обзор книги Александр Волошин - Земля Кузнецкая
Решением Совета Министров СССР
Александру Никитичу ВОЛОШИНУ
за роман «Земля Кузнецкая» присуждена
Сталинская премия второй степени за 1949 год.
Александр Волошин
ЗЕМЛЯ КУЗНЕЦКАЯ
ПРОЛОГ
И разыгралось же сердце у каждого воина, когда эшелон, перевалив пограничный рубеж, помчался по родной земле. Сгрудившись у открытых дверей вагонов, солдаты молча глядели на израненные поля. Синий дымок вился за дальним лесом, редкие сизые облака ползли на запад, багровея в лучах заходящего солнца. Каждый вдруг понял, что давно в его жизни не было и таких обыкновенных туч, и такого розового заката, и кудрявых дымочков за лесом.
Родина! Сколько сынов не вернулось в твои просторы!..
— Заяц! Смотрите, заяц! — кричит сержант Данилов и, сорвав с головы пилотку, показывает на прыгающий по зеленому полю комочек.
Долго в этот вечер не ложились спать. Сперва беседовали под торопливый перестук колес, потом в несколько голосов пели «Шумел камыш, деревья гнулись». И про Ермака пели и про славное море Байкал. Пели, томимые ожиданием скорых встреч.
Дверь не закрывали, и в бледном проеме ее до поздней ночи маячила небольшая фигурка Степана Данилова. Этот парень с беленьким вихорком, упрямо торчавшим из-под пилотки, отличался удивительной непоседливостью. Но это была не детская непоседливость, а горячее желание поскорее присмотреться к родной земле, надышаться ее ароматами. Маленький, крепко сбитый Данилов очень прямо носил свою русую вихрастую голову. На его узком подвижном лице светились синие пристальные глаза. Стоило поезду остановиться, будь то рано утром или поздно вечером, он прыгал с подножки и сразу куда-нибудь бежал. Зато в вагоне все точно знали фамилию паровозного машиниста (37 лет стажа!), знали, что у этого старика племянница учится в московской театральной школе, а кроме племянницы, никого нет — всех немцы порешили.
Данилов же сообщил, что первая узловая станция после границы будет утром.
А утром он вдруг исчез. Сначала этому не придали значения. Ну нет и нет человека, едет, значит, в соседнем вагоне или на тормозе. Но к вечеру всем стало не по себе. Аккордеоном заняться было некому, новостей не было.
— Вот якорь-то, отстал парень, — сокрушенно посетовал старый солдат Алексеев.
— Наверняка влюбился, — полушутя сказал Григорий Вощин. — Помните, когда еще из Германии тронулись, он заявил: «Как перееду границу — в первую же русскую девчонку влюблюсь!»
Только через двое суток, уже в Смоленске, Данилов явился в вагон и, ни слова не говоря, завалился на верхние нары. Выспавшись, он не торопясь съел котелок колхозного варенца, вытер губы, отряхнулся и потянул к себе аккордеон. Но после бойкого перебора вдруг остановился и задумчиво пригладил белый непокорный вихор.
— Был в Овражках, — сказал он негромко. — В сорок первом меня там так стукнуло — полгода валялся в госпитале, до пролежней.
— Ну и как? — насторожился Алексеев.
— Что как? До пролежней, говорю, валялся, вот как. Во мне и сейчас железа сколько угодно.
— Я не о том, — поморщился старый солдат. — Чудак человек, нашел чем хвастать. Я спрашиваю, как Овражки?
— Окоп своего отделения нашел… — Данилов растерянно улыбнулся, словно испугавшись, что его уличат в мальчишеском легкомыслии.
Но солдаты выжидающе молчали.
— Там, где первое отделение воевало, картошку посадили, а у самого моего окопа сад разводят… Вот люди! — Данилов помолчал и задумчиво добавил: — Жарко там было, черт!
На лицах демобилизованных появились несмелые улыбки.
— Видишь ты… — удивился Алексеев. — Сад!
Но Данилов уже встряхнулся и широко развел мехи аккордеона.
В Москве эшелон расформировали. Четверо сибиряков-попутчиков и дальше, уже пассажирским поездом, тронулись вместе. Сапер Моисеев, пожилой пехотинец Черкасов и Вощин — кряжистый широколицый связист ехали в Кузбасс, Данилов же был родом из Новосибирска.
Проворный маленький сержант занял верхнюю полку и залег там. Теперь он не бегал, а лежал чуть ли не по целым суткам, хотя духота в вагоне была нестерпимая.
За Уралом распахнулась необъятная сибирская ширь. Зеленые степи с голубыми осколками озер медленными кругами поворачивались за окном вагона. Солдаты стали заметно молчаливее. Вощин и Черкасов, оба одинаково обстоятельные, только тем и выдавали свое нетерпение, что чаще обыкновенного перекладывали в солдатских вешевичках скромные гостинцы для домашних. Моисеев из Прокопьевска часто изумленно оглядывался и, потирая руки, говорил:
— А ведь кончилось!.. Товарищи! Вот, ей-богу, чудеса!
— Сиди уж! — подал однажды голос Данилов. — Все никак не опомнишься! Наш народ не впервой такие чудеса творит.
— Нет, в самом деле, воевал, воевал…
— А соображаешь туго! — снова поддел Данилов.
Моисеев сердито потянул себя за длинный прокуренный ус, но потом махнул рукой и вполголоса предложил, подмигнув;
— Выпьем?
Впятером скромненько выпили, разложив на газете пайковую селедку, яйца вкрутую и кусочки холодного мяса.
Только что миновали Омск. Слегка захмелев, Данилов рассказывал, как он познакомился с Вощиным.
— Ты молчи, молчи! — строго прикрикнул он на связиста, когда тот попытался возразить что-то. — Раз было дело, значит должен я рассказать, тем более, что уважаю тебя… А было это двадцать девятого апреля. Мы уже в самом центре Берлина дрались. Лейтенанта нашего у Темпельгофа поранило, а капитана Рогова еще на Одере. Я командовал взводом, а во взводе четыре человека, если меня самого считать.
Утром передают приказ: «Вперед!» По улице немцы бьют из крупнокалиберного, да как! Перебежали мы до угла на Кирхенплатц. Смотрю, у крыльца, посреди известки и кирпичей, двое наших лежат. Убитые. А третий, неизвестный солдат стоит и не хоронится. Пули тренькают, чиркают обо что ни попадя, а этот солдат стоит и плачет, плачет и ругается: «Сволочи, — говорит, — ребят наших загубили. Всю войну бились вместе… Сволочи, засели вон под тем танком и подыхать добром не желают!»
— Будет тебе, — смущенно останавливает Вощин рассказчика. — С кем не бывало, сам знаешь…
— Все знаю, ты помолчи! — продолжает Данилов. — Так вот. «Подожди, — говорю я солдату, — размокнешь еще, чего доброго, дай оглядеться…»
Отдышался. В глазах свет прояснился. Небо на востоке чистое, будто его умыли. А на западе туча на тучу громоздится. Над головами гудит — это наши тяжелые идут. Идут эшелонами и, немного не дотянув до своего переднего края, разом ныряют. Посмотришь — даже голова в плечи уходит. Но бомбы точно следуют во вражеский адрес.
Берлин охает, гарью воняет. «Ага, — думаю, — это вам за Сталинград, за Овражки, будьте вы прокляты!» Говорю своим ребятам: «Видите угол, под которым танк завалился? Ну, вот нам хоть землю зубами грызи, а нужно хлопнуть фашистов, которые выстрачивают оттуда». Командую больше для бодрости духа: «Справа по одному!»
А справа у меня только один Колька Грачев — маленький, в чем душа, но въедливый, как клещ. Только крикнул я, как на нашу голову столько штукатурки посыпалось — уму непостижимо! Переждали. А чуть утихло — Колька Грачев метнулся на тротуар и за тумбу. По нему и давай щелкать. Парень только головой мотает. Убьют, думаю, стервецы. А солдат, который плакал, тянет меня за ногу и просит: «Сержант, а сержант, дай я сам…» — «Поди ты, — говорю, — к черту, плакса! Не мешай серьезным людям воевать».
И вдруг этот плакса вскакивает, как на пружинах, и в окно, — только его и видели. А мой Грачев забрался уже в воронку от бомбы, в аккурат посреди улицы, но из воронки головы показать не может. У нас, у троих, положение не лучше. Так четверть часа прошло, не меньше, — и вдруг на обломке балкона, прямо над головами немцев, показался наш незнакомый солдат. Я просто ахнул. Еще какая-то минута — солдат поднимается во весь рост и замахивается.
За танком взрыв, другой!.. Бежим туда. А там уже все аккуратно сработано. Солдат стоит и шатается. «Я, — говорит, — тут им… закончил войну…» — говорит и падает.
— Вот и вся история, — усмехается Данилов, — хотя не совсем вся, потому что, когда я этого солдата провожал в санбат, произошел один интересный раз говор, но об этом как-нибудь потом.
— Правильно, — облегченно вздыхает Вощин.
Несколько секунд они с Даниловым глядят в глаза друг Другу, потом разом перемигиваются и уж совсем дружелюбно хохочут.
А где-то уже за Барабинском маленький сержант вдруг поднялся ночью, беспокойно потоптался среди узлов и чемоданов, потом присел рядом с Вощиным.
— Ты понимаешь, друг, — заговорил он вполголоса. — Душа раздваивается. Если в Новосибирске остаться, так что я там буду делать? Ни родных, ни друзей. Голову приткнуть негде. Специальность тоже — знаешь, какая, — парикмахер. Не помирюсь теперь с этим.


