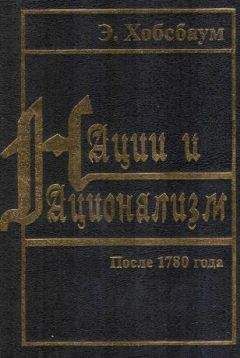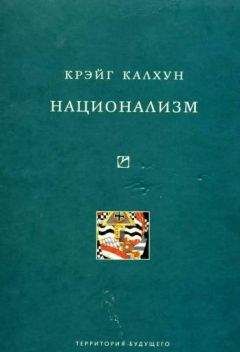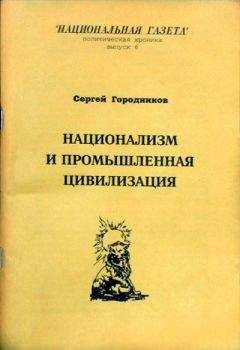Андрей Тесля - Первый русский национализм… и другие
Однако помимо вынесенных в подзаголовок тома двух имен в книге есть еще два важных персонажа. Во-первых, это Сергей Николаевич Дурылин, ставший преемником о. И. Фуделя в деле сохранения литературного наследия Леонтьева. По сделанным им копиям публикуется ряд писем, оригиналы которых не сохранились, в комментариях сохранены сделанные Дурылиным пояснения и заметки, а жемчужиной издания является мемуарный очерк о Леонтьеве, написанный о. И. Фуделем по просьбе Дурылина (сам о. Иосиф чуждался мемуарного жанра, отмечая: «Описывать всегда мне было трудно, а описывать свои житейские встречи и знакомства, особенно с таким близким мне человеком, как К. Леонтьев, это значит неизбежно говорить и о себе самом, что мне всегда было органически противно» (с. 433)). Этот очерк стал последней работой о. Иосифа, написанной в форме письма к Дурылину в сентябре 1918 года – 2 (15) октября того же года он скончался от страшной эпидемии «испанки». Возможно, одной из причин, побудившей о. Иосифа перешагнуть через свою нелюбовь к мемуаристике, стали воспоминания о его собственном письме к Леонтьеву, написанному за полгода до смерти последнего, в котором он просил Константина Николаевича «рассказать <…> опять главные моменты Вашей жизни – только письменно. <…>
Зачем мне эта Ваша автобиография (хотя бы даже краткая), не буду говорить; ведь Вы сами называете меня своим “литературным наследником”» (Фудель – Леонтьеву, 26.III.1891, с. 311). Тогда Леонтьев не смог исполнить просьбы, объясняя отказ крайней загруженностью делами, не оставляющими времени для подобного досуга (Леонтьев – Фуделю, 03.IV.1891, с. 312–313); 27 лет спустя, уже своему «литературному наследнику», Фудель в просьбе не отказал, осознавая всю ценность подобного свидетельства.
Вторым важнейшим не названным в подзаголовке персонажем выступает Ольга Леонидовна Фетисенко, взявшая на себя все труды по подготовке данного издания – один из современных хранителей памяти о Константине Николаевиче Леонтьеве, продолжающая дело, начатое заботами и усилиями о. И. Фуделя и С. Н. Дурылина. Собственно, подобное усилие по сохранению традицию и образует – не заботой о нынешнем дне, о том, что сиюминутно считается важным и актуальным, а о том, что обладает ценностью для тебя самого, ценностью для тебя очевидной и бесспорной, какой бы ни казалась она странной и ненужной для других. С. Н. Дурылин в 1920—1930-е годы, занимаясь Леонтьевым, сохраняя и спеша сберечь частички Леонтьевского архива, упрашивая, например, Е. В. Гениеву переписать попавшие в его руки на время письма Леонтьева к племяннице, сам спрашивает себя, не ошибается ли он, видя ценное там, где для других лишь никчемное прошлое, – и сохраненные им тексты публикуются десятилетия спустя, после его собственной кончины: тексты, сохраненные им потому, что для него (и для немногих таких же безумцев, как он) была очевидной их ценность. Это вроде бы слабое, почти безнадежное усилие оказывается проникнутым той верой, которая позволяет двигать горы, вопреки всем очевидностям, – трудами лишь нескольких энтузиастов продвигается дело по изданию академического Полного собрания сочинений Леонтьева, а одновременно с ним выходят и связанные с ним работы, воссоздавая ту «плотную среду», в которой только и возможно понимание леонтьевской мысли [79] .
Есть в русской традиции странные авторы – вроде бы всеми признанные, ценимые, но с какой-то нескладной судьбой: похвалы, неизменно сопровождаемые охранительными оговорками, грозящими едва ли не отменить изначально благоприятный отзыв; имя которых на слуху, но при этом всегда с некоторым оттенком неопределенности – мол, «да, но.». Как Лесков – бесспорный гений, невероятное чудо, случившееся в русской литературе тогда и там, где его вроде бы и вовсе ждать не приходилось – но при этом все неказисто, ничто не получается с первого раза. Леонтьев – как раз из их числа. Сам он жаловался на странный fatum, который распространяется не только на него самого, но и на все с ним связанное. Даже авторы, вполне ему симпатизирующие, ограничивались, как правило, изъявлениями сочувствия и признания лишь в личном порядке. Вл. Соловьев, высоко ценивший Леонтьева, все обещался написать о нем – и исполнил это только по его кончине, написав прочувствованный некролог, тогда как Леонтьев нуждался в живом отклике при жизни:...«Мое положение, или моя роль в русск<ой> литературе – совсем особая и даже непонятная. – То там, то сям мелькают (именно только мелькают) весьма ободрительные слова вроде: “великий ум, великая мысль; – удивительный слог; удивительные замечания; – самобытный мыслитель; тонкий художник; – глубоко; – остроумно; – блестящее изложение; – образцовый язык..” (Все это – я даже помню, кто и где сказал.) В совокупности взятые эти мелкие цветочки могут составить такой букет похвал, что самое взыскательное самолюбие удовлетворилось бы. Но букета этого никто не хочет связать и собрать <…>. – Быть может – это у иных происходит еще и от того, что не знают, в какую “клетку” меня поместить?» (Леонтьев – Фуделю, 18.VI.1890, с. 224–225).
Леонтьев настолько не избалован печатным вниманием к своей особе, что даже незначительная статья о. Иосифа в «Благовесте» [80] вызывает заботы и обсуждения, растянувшиеся на целый ряд писем. Собственно, неподдельное внимание, уважение и одновременно серьезный и твердый ум, найденные им в молодом собеседнике, оказались тем, в чем настоятельно нуждался Леонтьев – так легко, с поразительной открытостью и доверием откликнулся он на первые письма Фуделя сначала не сохранившимся объемным письмом (о пропаже которого в воспоминаниях, написанных для С. Н. Дурылина, горько сожалел о. Иосиф), а затем «громадным письмом [81] в 30 страниц мелкого сжатого почерка на почтовой бумаге двойного формата. Это поразительно. Писать незнакомому студенту так много, так любовно и о самом важном в своих убеждениях – это поразительно. Это то самое письмо о славянофилах и об эстетике жизни, которое дважды было мною опубликовано в печати (хотя не полностью) [82] . В нем сосредоточено все характеризующее К. Леонтьева в самых источниках его мировоззрения, и узнать его, а тем более судить его и писать о нем нельзя, не прочитавши этого письма. Но самый факт интимного дара такого письма, которое стоит литературного произведения, молодому человеку говорит мне о личности писателя гораздо более, чем многие страницы его биографии» (Мое знакомство с К. Леонтьевым… С. 440). Леонтьев быстро и глубоко привязался к своему молодому знакомому, почти сразу сделавшегося его другом, полюбив и его, и его молодую жену (которая, в свою очередь, сохранит до самой смерти теплую память о К. Н., запечатленную «В своем углу» С. Н. Дурылина), сделав его своим собеседником по основным занимавшим его в то время вопросам. Представление о важности и интенсивности общения дает уже тот факт, что, не считая четырех личных встреч, за три с половиной года, прошедших от первого, заочного знакомства до кончины К. Н., они обменялись по меньшей мере 135 письмами [83] . Значение переписки К. Леонтьева с о. И. Фуделем было оценено давно – в 1912 году на публикацию (в сокращении) о. Иосифом двух писем Леонтьева В. В. Розанов отозвался, например, так:
...«Вполне удивительно и достойно упрека, каким образом свящ. Фудель мог так долго держать под спудом столь многозначительный документ, ввиду пробудившегося интереса к мельчайшим вариациям идей этого превосходного мыслителя XIX века» (Розанов, 2006: 46).
Действительно, в этой переписке Леонтьев раскрывается с удивительной полнотой своих интеллектуальных интересов: в о. И. Фуделе он нашел редкого для себя собеседника, внимательного к тому же кругу проблем, готового учиться и в то же время обладающего достаточно прочными личными взглядами и убеждениями, чтобы дать благоприятный упор мысли К. Н.:
...«Варя, увидев, что я все Вам это пишу, а не статью для “Гражд<анина>”, – бранит меня: “Как Вы мне, право, надоели – в доме денег нет; в Банк надо платить, а вы вместо статьи все Осип Ивановичу пишете!..” Увы! С “утилитарной” точки зрения она совершенно права. – Я всю эту зиму – ничего еще за литературу не получал, а 400 рубл<ей> сер<ебром> у Берга и Цертелева [84] набрал вперед. – Но что ж делать – если мне частная беседа с вами несравненно приятнее, чем беседа с “публикой” нашей» (Леонтьев – Фуделю, 19.I.1891, с. 281).
Но общение между Леонтьевым и Фуделем – отнюдь не только интеллектуальное: с ним Леонтьев делится и куда более важным, своим духовным опытом, прислушиваясь к собеседнику, избравшему путь священства (К. Н. сильно помог в хлопотах, связанных с посвящением в сан), с ним же – одним из немногих – Леонтьев поделится новостью о принятии им монашеского пострига.