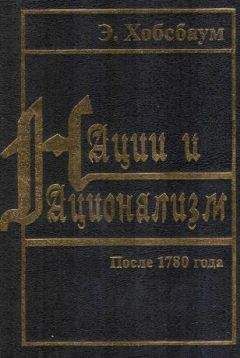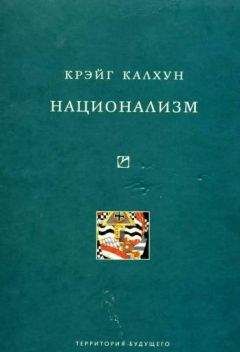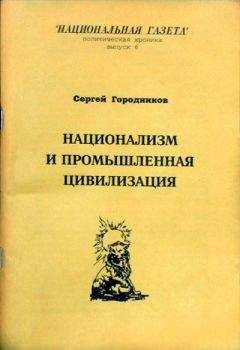Андрей Тесля - Первый русский национализм… и другие
И здесь мы можем заметить, что сказанное относится не только к «личной жизни», ведь политика так и останется для него областью «нравственных чувств». Характерно, как в споре с Чичериным в ответ на все аргументы последнего Герцен будет настаивать на искренности своего высказывания: «искренность», «непосредственность», «правда чувства» – это то, что оправдывает действия, невзирая на их последствия. Впрочем, и данную позицию сам
Герцен не доведет до конца, в 1864 году и дальше все чаще размышляя о том, где и как он ошибся, что привело его политическую роль к крушению, что поставило его вне всех лагерей – и притом теперь это «вне» оказалось и «вне сферы внимания». Все меньше интересуются тем, что пишет, о чем размышляет Герцен, и молодые радикалы и начинающие революционеры (поспеть за которыми вместе с «вечно юным» Бакуниным пытается и стареющий Огарев).
Последние годы проходят с осознанием разбитой жизни.
10 марта 1867 года Герцен пишет Огареву: «Если хочешь переехать ко мне.» – и дальше: «Но куда ко мне? “У меня” нет у меня» (с. 513). Но если кризис начала 1850-х можно было осознавать как удар судьбы, то теперь от осознания, что это итог его собственных действий, его выбора, – от этого уйти невозможно. В отрывочных записях дневника 2 декабря 1869 года, когда ему оставалось жить шесть недель, Герцен фиксирует, что «они» «сложились разрушителями», «ничего не создали, не воспитали. Последствие непростительно – нигилизм в окружающих людях в отношении к семье, к детям» (с. 528). Сам он далек от подобного нигилизма, но попытка выстроить свою жизнь по правилам, которые ты приписываешь себе самостоятельно, оборачивается тем, что связь с другим – это лишь связь чувства: ему возвращается его же взгляд, ставший катастрофическим от того, что у других нет тех чувств, которых он ждет, а ничего помимо чувств нет.
2.3. Константин Леонтьев
«Пишущий должен печататься»
Пророки Византизма: переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова (1875–1891) / составление, вступительная статья, подготовка текстов и комментарии О. Л. Фетисенко. – СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2012. – 728 с.; 4 с. цв. вклейка. – (Серия: Русские беседы)
Интерес к Константину Леонтьеву – давний и устойчивый, он имел свои «пики» в 1910-е, в 1990-е, переживал и упадок, но доказал со всей очевидностью свой несиюминутный характер.
Энтузиазм переоткрытия конца 1980—1990-х прошел, произошло обращение к научному изучению его наследия – и чем дальше продвигается эта работа, тем устойчивее оценки объективной значимости его творчества: Леонтьев предстает как интересный прозаик второго плана, тонкий литературный критик, один из немногих в 1880-е способный говорить о литературе, а не по поводу литературы, и как один из наиболее глубоких политических мыслителей в отечественной традиции. В этом контексте несомненна ценность опубликованной переписки, снабженной подробным комментарием и сопровождаемой глубокой вступительной статьей О. Л. Фетисенко, раскрывающей историю взаимоотношений корреспондентов и основные темы их эпистолярной беседы.
Переписка Леонтьева и Филиппова, продолжавшаяся 16 лет, началась с обращения к последнему с просьбой об устройстве статьи в газету-журнал «Гражданин». Формальное знакомство быстро переросло в относительно регулярную переписку, к тому же поддерживаемую личными встречами, однажды они даже вместе ездили в Оптину пустынь. Связывало собеседников многое – в первую очередь отношение к греко-болгарской церковной распре, в вопросе о которой Филиппов, уже с конца 1850-х годов поддерживавший греков, ощущал отчаянное одиночество в русском обществе, одержимом «болгаробесием». Тем ценнее для него были согласие и деятельная поддержка со стороны Леонтьева, видевшего, как и Филиппов, основную угрозу церкви не в тех или иных притеснениях болгар со стороны греческого духовенства, но в попытках разделить церковь по национальному признаку. Сближало собеседников и их понимание православия – редкий среди русских образованных людей церковный консерватизм, понимание Церкви как безусловно главного, важнейшего, что не может подчиняться каким бы то ни было принципам, взятым извне, – не важно, из либерального ли лагеря (например, аксаковского, стремившегося либерализовать церковный строй) или консервативного, мыслящего церковь одним из орудий государства. Общими были и многие из их врагов и недоброжелателей – Катков и Победоносцев составляют постоянный предмет и раздраженных высказываний, и жесткой критики по существу.
Для Леонтьева же Филиппов становится жизненной опорой, помогавшим ему в самые тяжелые жизненные моменты. Благодаря Филиппову Леонтьев получает место в московском цензурном комитете, Филиппов помогает ему «пристраивать» публикации [75] и играет решающую роль в назначении Леонтьеву повышенной пенсии [76] .
В первое десятилетие собеседников связывало многое, но постепенно связи истончаются – остается все меньше общих предметов. По некоторым давно достигнуто согласие, другие – вроде «политических фантазий» Леонтьева – не находят в собеседнике поддержки и готовности поддерживать разговор. Остаются либо монологические письма Леонтьева, по большому счету не требующие ответа, либо просьбы – о родных, знакомых, о собственных делах, на которые Филиппов по мере сил откликается.
Леонтьев часто обращался к разговору о «странности» своей «литературной судьбы»: получавший положительные, а подчас и восторженные отклики на свои произведения от уважаемых авторов, включая и Тургенева, в чей литературный круг он входил, Леонтьев оставался упорно не замечаемым «большой критикой», фигурой, чьи достоинства не отрицаются, но при этом остающейся за пределами основного ядра литературы. Дебютные произведения прошли успешно – но дебют не получил продолжения. Политическая публицистика читалась и обсуждалась самыми влиятельными фигурами: Победоносцев сравнивал Леонтьева в 1880 году с Катковым, отдавая ему отчасти преимущество перед последним (правда, в частном письме), Филиппов поддерживал
Леонтьева и проталкивал его публикации, Вл. Соловьев ценил его, видимо, больше кого бы то ни было из современников, но Леонтьев никак не мог приобрести не то что статуса «властителя дум», о котором мечтал, но хотя бы «влиятельного публициста». За год с небольшим до смерти, когда его имя, наконец, стало чаще встречаться в печати и вызывать отклики, Леонтьев писал о. И. Фуделю (16.V.1890):...«Мне очень грустно <…> когда я вспоминаю, что даже и Вы (с Вашей независимостью) почему-то нашли нужным назвать “парадоксами” мои мнения <…> – Что такое парадокс? Это значит: мысль странная, новая, удивительная и больше ничего. – Но у нас, в робкой литературе нашей? – это название “парадокс” есть почти порицание; – все привыкли соединять с ним представление о чем-то непрактическом, причудливом, ненужном и даже почти безумном. <…> Всякая великая мысль сначала кажется толпе парадоксом. – Но Вы не толпа» (с. 615, прим. 10 к письму № 203).
А в письме к Филиппову от 27.I.1891, отзываясь на реакцию печати на свои статьи, характеризует ее следующим образом: «Оригинально, оригинально, оригинально, парадоксы, парадоксы. Или ни слова» (с. 613).
В том числе и отсюда – постоянное нытье и жалобы в письмах, в письмах Филиппову с особым подтекстом, с надеждой на помощь: выхлопотать место, пенсию, помочь с редактором, князем Мещерским. Впрочем, постоянные неудачи разрушают душу – а в особенности в том случае, когда амбиции и самооценка запредельно велики. Высокое мнение о себе постоянно разбивается о мелочные сопоставления: хлопоча о пенсии, он напоминает, что такую же дали и Гончарову, хотя тот уже стар и вряд ли что-нибудь напишет; обсуждая, сколько будет получать после его смерти жена, указывает на то, что такую же по размеру пенсию дали «жене Достоевского», хотя Достоевский не служил, а только писал; обижаясь на Мещерского, помимо серьезных поводов, два раза с упрямством упоминает о не опубликованном князем стихотворении
Александрова в свою честь. Когда Филиппов пытается утешать его и пишет, например, 29.V.1890:
...«Самобытность ума есть высокое отличие и Божия печать, но жить с этим даром труднее! И, по-моему, не то особенно горько, что твоей мысли не понимают; крайняя беда наступает с той минуты, как начинают ее признавать и своим неумелым прикосновением сдирать ее эмаль.
O imitatores, servum pecus, ut mihi saepe
Bilem, saepe jocum vestri movere tumultus [77] .
Меня вовсе не радует, например, что “Н<овое> Время” признало верность Вашего взгляда на болгар, выраженного в 1873 г. Всю ли Вашу мысль оно восприняло? Нет! даже менее десятой ее доли. И даже эта доля поместилась в собирательном уме этой газеты рядом и даже слиплась с такими другими мыслями, которые с ней ничего не имеют общего и от которых Вы, конечно, отвернетесь с омерзением. Поверьте, лучше два, три, полдюжины действительных, подлинных единомышленников, чем 40 000 признающих Сувориных» (с. 592),