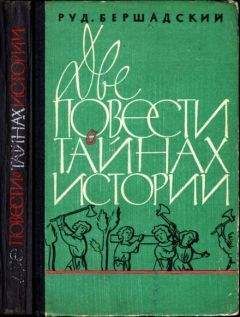Е Мурина - Ван Гог
Эмиль Бернар в своих воспоминаниях о Ван Гоге, оценивая значение японского искусства, выражал, очевидно, их общее мнение: "Это влияние Японии на северных художников не должно быть забыто. Оно было нужным, воскрешающим. Оно заставило вновь обратиться к интерпретации, руководствуясь декоративным чувством, и оно вывело своих поклонников из мира обыденности и из копирования окружающего без стиля... Японец, возможно, является греком Дальнего Востока, где мысль естественно стремится к преувеличению, к гротеску, к чудовищному. Первый период картин, которые прислал Винсент из Арля, - родное дитя этого восточного искусства. Настоящий голландец, он не мог угрызаться тем, что соединился мыслью с Востоком" 57.
Ван Гог тоже считал, что "японское искусство, переживающее у себя на родине упадок, возрождается в творчестве французских художников-импрессионистов" (510, 371). Уже к концу парижского периода, когда его надежды на будущее все отчетливее связываются с японцами, он пробует "освоить" язык их искусства.
Летом 1887 года Ван Гог пишет несколько копий с имеющихся у него гравюр, как он делал это раньше с картинами Милле. М. Шапиро пишет, что "может быть, он был единственным живописцем этого времени, который так прямо подражал японской гравюре. Тонкую субстанцию Хокусая и Хиросиге он перенес на холст компактными средствами масляной живописи" 58. Одна из копий - "Цветущая слива (по гравюре Хиросиге)" (F371, Амстердам, музей Ван Гога) изображает распластанный по плоскости ствол, позади которого виднеется буйно цветущий сад. И тот и другой элементы станут самостоятельными мотивами его живописи в Арле. Другая копия по Хиросиге "Мост и дождь" (F372, там же) еще точнее воспроизводит оригинал с его плоскостным построением и четкими членениями на цветовые планы 59. Интересно, что в третьей копии Ван Гог пытается создать своеобразный монтаж из различных фрагментов гравюр, взяв за основу "Ойран" Кёзе Йезе 60 и окружив центральное изображение "экзотической" рамой 61.
И стволы деревьев и мосты всегда привлекали Ван Гога, как до встречи с японскими гравюрами, так и после. Мост для него был одной из самых характерных принадлежностей голландского пейзажа. Известно, что он написал более двадцати пейзажей с мостами. То же можно сказать и о деревьях, в изображение которых он вкладывал психологическое содержание.
Копируя японские гравюры, Ван Гог ставит откровенно учебную задачу, не стремясь ни к каким внешним заимствованиям. Его подходу к освоению японского искусства совершенно чуждо стилизаторство и эстетство: "Мы слишком мало знаем японское искусство. К счастью, мы лучше знаем французских японцев - импрессионистов. - А это главное и самое существенное. Поэтому произведения японского искусства в собственном смысле слова, которые уже разошлись по коллекциям и которых теперь не найдешь и в самой Японии, интересуют нас лишь во вторую очередь...
Японское искусство - это вроде примитивов, греков, наших старых голландцев - Рембрандта, Петтера, Хальса, Вермеера, Остаде, Рейсдаля: "оно пребудет всегда..." (511, 371). Итак, японское искусство привлекательно не своим сугубо "японским" содержанием и стилем, а своей причастностью к общечеловеческим и исконным понятиям красоты, правды, добра. И если к концу парижского периода вангоговские критерии, касающиеся нравственных, социальных и культурных предпосылок возрождения живописи, "японизируются", то это значит, что он вкладывает в само слово "Япония" некий всеобъемлющий символический смысл, некое оценочное значение.
Характерно, что среди парижских моделей Ван Гога лишь два персонажа были "удостоены" истолкования на японский манер. Таков "Портрет итальянки" (F381, Париж, Лувр), изображающий, как предполагает большинство авторов, Сегатори, владелицу кафе "Тамбурин", с которой у Ван Гога была, по-видимому, любовная связь, написанный в конце 1887 - январе 1888 года. Использовав композиционные приемы японских художников - рамка, обрамляющая с двух сторон полотно и "вступающая" в перекличку со спинкой стула, на котором сидит женщина, силуэтное решение "прижатой" к фону фигуры, утверждающей плоскость, - Ван Гог как бы поэтизирует свою героиню и чувство любви, которое изливается в сиянии желтого фона. Довольно ненавязчиво "гримирует" он лицо и прическу Сегатори "под японку", но не изысканного утамаровского типа, а того демократического, который характерен для рисунков Хокусая. То же самое он проделывает и с собой в "Автопортрете на фоне японской гравюры", который некоторые исследователи рассматривают как подготовительный к одной из самых значительных работ этого периода "Автопортрету перед мольбертом с кистями и палитрой" 62.
Но особенно щедро одарил Ван Гог духом "японщины" торговца картинами папашу Танги 63, единственного парижанина, дружба с которым вылилась в пламенную симпатию, свидетельством которой и явились его портреты. Впервые Ван Гог написал Танги летом или осенью 1886 года, когда начал посещать его лавчонку, по-видимому, по рекомендации Писсарро ("Папаша Танги", F263, Копенгаген, Новая Карлсбергская глиптотека). Популярность Танги среди новых живописцев не соответствовала скромным размерам его торговли и была связана с его бескорыстной любовью к этим непризнаваемым талантам. В его лавочке, названной Бернаром "часовней со своим старым служителем" 64 (старик действительно благоговел перед своими избранниками, например Сезанном), всегда были лучшие полотна Писсарро, Гогена, Сёра, Синьяка, Ван Гога и других. Здесь их могли посмотреть и на них поучиться новые, еще более безвестные молодые художники, которым, однако, принадлежало будущее и которые должны были принять эстафету от "импрессионистов Малых Бульваров". Один из них, Морис Дени, не зря писал, что "то мощное течение, которое к 1890 году обновило французское искусство, вышло из лавочки отца Танги, торговца красками на улице Клозель, и из трактира Глоанек в Понт-Авене" 65.
По-видимому, Ван Гог придавал добряку Танги и его роли для судеб нового искусства такое же значение. Вспомним, какое огромное место в его размышлениях занимали торговцы картинами, от которых зависело существование таких, как он. Вера Танги в искусство непризнанных художников возвышала его в глазах Ван Гога. Кроме того, его восхищала вся личность папаши Танги.
Исключение среди торговцев картинами, бывший коммунар, сторонник братства не на словах, а на деле, щедро делившийся с этими отверженными своими скромными доходами, Танги жил простой, естественной жизнью и был для Ван Гога единственным носителем того идеала, который он противопоставлял "дохлым декадентам - завсегдатаям парижских бульваров" (Б. 10а, 562).
Таким добрым духом нового искусства, излучающим свою всем известную улыбку и простодушную радость, и изобразил его Ван Гог под конец своего пребывания в Париже - "Портрет папаши Танги" (F363, Париж, музей Родена; вариант, F364, Беверли Хилле, Калифорния, собрание Ж. Робинсон).
Де ла Фай имел все основания утверждать, что папаша Танги изображен Ван Гогом, "как памятник вдохновения Японией в эти парижские годы" 66. Действительно, художник наделяет фигуру Танги иератизмом буддийского божества или, точнее, веселого амулета-нэтцке, охраняющего от козней злых сил. Одетый в синюю куртку и соломенную шляпу, что, по Ван Гогу, тоже является знаками отличия, Танги восседает в самом центре полотна на фоне целой экспозиции японских гравюр. Этот прием введения изображения в изображение, создающего второй план, контекст, заимствованный из японского портрета 67, применен Ван Гогом впервые в его творчестве, если не считать другой работы - "Женщина, сидящая в кафе "Тамбурин" (F370, Амстердам, музей Ван Гога), где на фоне тоже виднеются японские гравюры. Однако там они, скорее, являлись частью среды, намеком, быть может, на выставку, устроенную Ван Гогом, но не имели отношения к образу, так же как и японский зонтик, лежащий рядом с моделью. В портрете Танги фон, состоящий из японских гравюр, играет принципиальную роль "атрибута" героя, указывает на его внутреннюю причастность не к "прогнившей" цивилизации буржуа и "декадентов", а к радостному миру древнего и вечно прекрасного искусства, из которого он явился перед зрителем, словно добрый фокусник. Декорация из гравюр с изображениями неизменной Фудзиямы, цветущих деревьев, японских актеров и тому подобных традиционных мотивов играет в портрете роль естественной жизненной среды. Она функционально-символически связана с образом героя, примерно так же, как экзотическая природа тропиков в картинах Гогена, творящего свой поэтический миф. "Портретом папаши Танги" Ван Гог возвещает о своей мечте претворить жизнь в некий японский парадис, частью которого он уже готов мыслить себя и всех тех, кого любит и кем восхищается.
Правда, М. Шапиро считает, что художник не ставит знака равенства между своим героем и фоном, подчеркивая разницей в манере исполнения фигуры и декорации "решительное различие между дальневосточным и европейским искусствопониманием, которое заключается в том, что в последнем человек имеет ключевое значение" 68. Действительно, круглое, добродушное лицо Танги, несмотря на всю "игрушечность", особенно во втором варианте (F364), оживленное идущей изнутри душевной теплотой, воспринимается во всей своей человечности на фоне застывших маскообразных гримас, выступающих из фона. Ван Гог как бы пытается выдвинуть в качестве новой программы "спасительный" синтез между европейским гуманизмом, которому остается верен до конца, и воодушевляющим его японским искусством, в котором со свойственной ему беззаветной увлеченностью видит возможности разрешить все противоречия, опутавшие, по его мнению, парижан и его вместе с ними. Уподобить искусство такой реальности, какую он воссоздает на этом полотне, - вот его ближайшая цель.