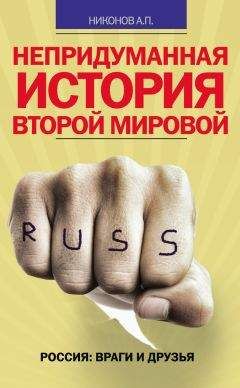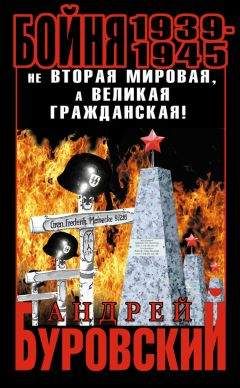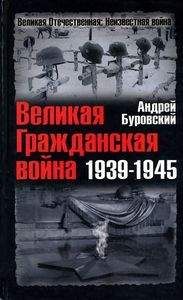От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
Под непосредственным руководством Вышинского к 26 ноября перечень вопросов, не подлежавших обсуждению, был составлен. Комиссия его утвердила, однако Комитету обвинителей в то время список передан не был. Решили подождать других.
Трояновский прибыл в Нюрнберг 19 ноября, накануне начала процесса. «Город производил удручающее впечатление. Весь его исторический центр в результате англо-американских бомбардировок был превращен в развалины. Никто там не жил и не мог жить, и только время от времени из развалин домов появлялись огромных размеров крысы. Окраины города, однако, сохранились в более или менее приличном состоянии. Они были застроены небольшими коттеджами, из которых в большинстве случаев прежние немецкие владельцы были выселены американскими оккупационными властями. Многие из этих домов занял персонал трибунала. Я поселился в доме, который занимали советские судьи…
Пожалуй, наиболее убедительный аргумент, благодаря которому американцам удалось склонить представителей других государств – учредителей международного трибунала провести суд над главными военными преступниками именно здесь, в Нюрнберге, заключался в том, что тут каким-то чудом сохранилось в довольно приличном состоянии огромное здание местного Дворца юстиции, к которому непосредственно примыкала большая тюрьма. Как будто сама судьба распорядилась так, чтобы сохранить этот комплекс для наступившего после войны возмездия. К тому же Нюрнберг был местом массовых фашистских пропагандистских действ, которые Геббельс умел организовывать на широкую ногу. Так что в этом смысле существовала определенная символика – где все начиналось, там суждено было всему и завершиться».
Исследователь Нюрнберга, поработавший и заместителем Генпрокурора РФ, Александр Григорьевич Звягинцев справедливо, хотя и слегка пафосно писал: «Нюрнбергский процесс приобрел всемирно-историческое значение как первое и по сей день крупнейшее правовое деяние Объединенных Наций. Единые в своем неприятии насилия над человеком и государством народы мира доказали, что они могут успешно противостоять вселенскому злу, вершить справедливое правосудие».
20 ноября в 10 часов утра председатель Международного Военного Трибунала лорд Джеффри Лоренс в торжественной обстановке открыл первое судебное заседание.
Почему именно он, пояснял Трояновский: «Председателя суда избирали сами судьи. Очень хотел занять председательское кресло американский судья Фрэнсис Биддл. Но ему сами американцы настоятельно рекомендовали не добиваться этого, поскольку и без того США играли слишком заметную роль в организации и проведении процесса. В результате председателем суда был без каких-либо проблем избран член апелляционного суда Англии Джеффри Лоуренс. Это было весьма удачное решение. Хотя Лоуренс с первого взгляда производил впечатление мягкого, безобидного джентльмена, как бы сошедшего со страниц романов Диккенса, он мог, когда необходимо, проявлять и твердость, и настойчивость, не злоупотребляя, однако, этими качествами».
Лоуренс произнес:
– Процесс, который должен теперь начаться, является единственным в своем роде в истории мировой юриспруденции, и он имеет величайшее общественное значение для миллионов людей на всем земном шаре. По этой причине на всяком, кто принимает какое-либо участие в этом процессе, лежит огромная ответственность.
Лоренс заверил, что процесс будет публичным в самом широком смысле этого слова, и выразил удовлетворение тем, что главные обвинители приняли все меры, чтобы защита получила доступ к многочисленным документам обвинения, и тем самым предоставили обвиняемым полную возможность для защиты.
Весь день 20-го и первую половину 21 ноября зачитывалось Обвинительное заключение. После этого подсудимых спросили, признают ли они себя виновными. «Все обвиняемые ответили отрицательно. Были попытки распространенных ответов, но они пресечены судом», – сообщал Покровский в Москву.
Содержание вступительной речи Руденко, сбор доказательной базы находились под прямым контролем из Кремля. Чтобы не пускать дело на самотек, Политбюро ЦК ВКП(б) 21 ноября решило создать еще одну Комиссию, уже в Нюрнберге, под председательством все того же Вышинского. Его заместителем стал прокурор СССР Горшенин, который в отсутствие Вышинского фактически руководил работой этой новой комиссии и почти ежедневно направлял в Москву телеграммы с подробным изложением хода процесса. Членами Комиссии стали профессора Трайнин, Маньковский, член-корреспондент АН СССР Строгович, Кузьмин.
В тот же день, 21 ноября, было принято еще одно секретное решение Политбюро: «Провести в течение декабря 1945 – января 1946 г. открытые судебные процессы по делам изобличенных в зверствах против советских граждан бывших военнослужащих германской армии и немецких карательных органов в городах: Ленинграде, Смоленске, Брянске, Великие Луки, Киеве, Николаеве, Минске и Риге». К подсудимым должен был применяться Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, предусматривавший смертную казнь через повешение.
Вступительную речь по первому разделу Обвинительного заключения, где инкриминировался общий план или заговор, произнес главный обвинитель от США Роберт Джексон:
– Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся.
Особый упор Джексон сделал на вопросе о геноциде евреев:
– В преследованиях евреев участвовали правительство, партийные организации, государственная тайная полиция, армия, частные и полуобщественные организации, а также «стихийная толпа», инспирированная официальными кругами. Преследование было направлено не против отдельных евреев. Имелось в виду уничтожение всего еврейского народа – это было самоцелью, средством подготовки войны и должно было явиться уроком для побежденных народов. Уцелели лишь остатки европейского еврейского населения.
Из 9 600 000 евреев, проживавших в подвластной нацистам Европе, по заслуживающим доверия данным, погибло 60 %… История не знает преступления, направленного одновременно против такой массы людей, произведенного с такой расчетливой жестокостью.
Об истреблении миллионов советских граждан речи не было.
В своей вступительной речи Джексон, вероятно, предвидя возможность обсуждения темы мюнхенского сговора, заявил:
– Соединенные Штаты Америки не желают вступать в дискуссии по вопросу сложных довоенных течений европейской политики, и они надеются, что этот процесс не будет затянут рассмотрением их.
Тем не менее выступление Джексона было высоко оценено не только прессой, но и его советскими коллегами. Покровский писал Вышинскому: «Джексон начал свою прекрасно подготовленную речь. Одна из основных мыслей: „Если мы пронесем чашу с ядом мимо уст подсудимых, то мы поднесем ее к своим собственным устам“. Отдельные места речи являются образцовыми с точки зрения международной вежливости и ораторского мастерства». Покровский предлагал дать ее развернутое изложение в советской печати.
В Нюрнберг 25 ноября прибыл Вышинский. Он дал указания Руденко по содержанию его выступления, провел инструктаж обвинителей, следователей, журналистов и организовал 26 ноября заседание Комиссии, на котором постановили: «По каждому документу тт. Руденко и Никитченко обязаны давать заключение о его приемлемости или неприемлемости, с точки зрения интересов СССР, в случае надобности не допускать передачи и оглашения на суде нежелательных документов».
Если принять во внимание, что обвинители от западных союзников намеревались предъявить суду несколько тысяч документов, преимущественно на немецком языке, то можно представить, какую работенку Вышинский задал аппарату. Следует заметить, что ни Руденко, ни Никитченко немецким не владели.
Оперативно удалось разобраться с наиболее важными документами. Уже 27 ноября Вышинский информировал Молотова, что Руденко заявил об отводе представленного делегацией США для рассмотрения Трибуналом секретного приложения к советско-германскому договору о ненападении 1939 года. Таким образом, секретный протокол к пакту Риббентропа-Молотова суду передан не был.