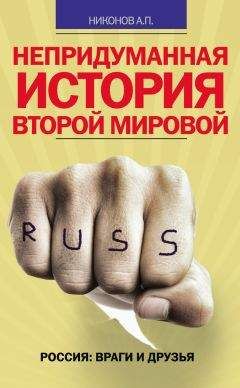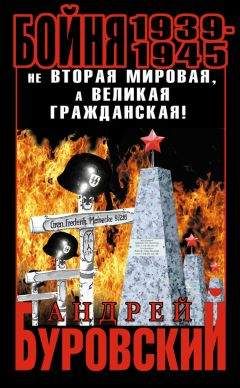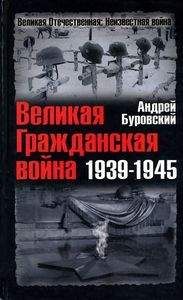От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
3. Изъятию из банков подлежат:
а) все ценности, ценные бумаги, акции и другое имущество, принадлежащее членам нацистской партии, крупным помещикам, владельцам предприятий военной и бывшему фашистскому государству…
б) золото, серебро и платина в слитках, в монете. Вся иностранная валюта, акции, бумаги, имущественные документы и другие иностранные ценности – независимо от того, кому бы они ни принадлежали…».
Отношения с западными союзниками в Германии до поры оставались рабочими. Эйзенхауэр вспоминал: «Последний раз я видел Маршала Жукова 7 ноября 1945 года. Это был день советского праздника, и в честь его он устроил большой прием в Берлине, пригласив всех командующих и старших штабных офицеров своих союзников. Погода резко ухудшилась, и лететь оказалось невозможным. Двое других командующих отменили свои поездки, а я, поскольку мне было известно, что вскоре получу приказ о возвращении в Соединенные Штаты, решил побывать на приеме, хотя знал, что обратно мне придется ночью ехать поездом, а затем днем покрыть большое расстояние на автомашине.
Когда я прибыл, Маршал Жуков со своей женой и несколькими старшими помощниками стояли в центре зала, принимая гостей. Он приветствовал меня и затем быстро покинул центр зала. Маршал взял свою жену под руку, и мы втроем уединились в уютной комнате, где был накрыт стол с самой изысканной закуской. В разговоре прошло два часа.
Общий тон высказываний маршала сводился к тому, что, по его мнению, мы в Берлине кое-чего добились для разрешения трудной проблемы установления взаимопонимания между двумя странами, столь разными по своим культурным и политическим взглядам, какими являлись Соединенные Штаты и Советский Союз. Маршал считал, что мы могли бы добиться еще большего…
Русские великодушны. Они любят делать подарки, принимать гостей, и это может подтвердить почти любой американец, которому приходилось работать вместе с ними. По своему великодушию, по своей преданности товарищу, по своему здравому и прямому взгляду на дела повседневной жизни обыкновенный русский, как мне кажется, очень похож на так называемого среднего американца.
После моего возвращения в Соединенные Штаты мы с маршалом продолжали переписываться в привычном для нас дружеском тоне до апреля 1946 года».
Но постепенно работа Контрольного совета становилась все более конфликтной. Это хорошо описывал Серов: «К концу 1945 года в Контрольном совете стали возникать спорные вопросы, особенно по ликвидации военно-экономического потенциала Германии, то есть крупнейших концернов, которые снабжали фашистскую армию оружием и приборами, разоружение и ликвидация различных воинских и военизированных подразделений, ликвидация фашистских организаций и т. д.
Я все это подробно изложил Г. К. Жукову, который, возмущенный тем, что союзники умышленно не выполняют Потсдамское соглашение, разразился меморандумом в Контрольный совет, где указал, что несмотря на решение Потсдамской конференции в английской зоне существуют военные части немецкой армии, а также воздушные и морские, которыми управляют немецкие военные округа, и перечислил пять городов, где они дислоцируются… Также было указано 25 городов, где немцы организовали открытые военные комендатуры. И в заключение в меморандуме было указано, что в Шлезвиг-Гольштейне до миллиона немецких солдат не распущены и продолжается военная подготовка…
Был Контрольный совет, Монтгомери на заседании вертелся как еж, приводя в объяснение различные трудности в ликвидации воинских подразделений. Эйзенхауэр, видимо, был в курсе дела, так как он ссылался зачастую на Монтгомери. Затем через некоторое время был отозван в Вашингтон, а вместо него был назначен генерал-полковник Клей.
После Эйзенхауэра дела пошли все хуже и хуже, так как Клей на себя многое не брал, а Монти уже не считался с американским коллегой…
В общем, начались прохладные отношения с союзниками».
Военная администрация США в декабре понесла знаковую потерю: закончилась жизнь одного из самых ярких американских военачальников – генерала Паттона, который занимал должность военного губернатора Баварии. Британский историк Эндрю Робертс замечал: «Сам Паттон был человеком, мягко говоря, не очень объективным. Обратной стороной его ярого американизма был антисемитизм: его вера в сионистско-большевистский заговор нисколько не уменьшилась после освобождения концентрационных лагерей. В конце службы он находился под наблюдением психиатра, а его телефонные разговоры прослушивались. Он умер во сне 21 декабря 1945 года, через двенадцать дней после аварии, сломав шею во время столкновения с грузовиком у Мангейма».
В январе Серов записал в дневнике: «С немцами ужасно тяжело. Я уже говорил, что в первые дни, когда мы ворвались в Берлин, ходили они тихими, как овцы. Теперь, когда за полгода освоились, так готовы с ногами на голову влезть…
Коменданты городов неплохо взяли власть в свои руки, пользуясь авторитетом у немцев, вернее, немцы их боятся… Начальники СВА провинций – довольно дельные генералы. Стараются как можно больше выжать из немцев, как по производству на предприятиях, которые идут в СССР по репарациям, так и по демонтажу машин, оборудования и других агрегатов, необходимых для нашей Родины, которую немцы разрушили. Шлем вовсю.
Немцы, правда, косятся, но боятся и демонтируют. Надо сказать, что наши некоторые „деятели“ приезжают сюда не работать, а, как говорят, „побарахолиться“. Этим мы подрываем себе авторитет…
Союзники ведут себя сдержанно. Зам Эйзенхауэра генерал Клей говорит, возражает, а Монтгомери не поймешь – бурчит себе под нос, а когда выступает, то он ни за, ни против, не поймешь. Де Латр де Тассиньи, тот на словах соглашается с нами, улыбается мило, а на деле все делает, как скажут американцы. В общем, получается нескладно».
Союзники, мягко говоря, не спешили с искоренением наследия гитлеровского режима. Жуков справедливо опишет ситуацию: «Решения Крымской конференции и Контрольного совета проводились в их зонах оккупации односторонне, чисто формально, а в ряде случаев и просто саботировались. Это относится и к решению о демилитаризации Германии. Ни в экономической, ни в политической, ни непосредственно в военной области это решение полностью осуществлено не было».
То же можно сказать о денацификации. Здесь базовыми документами стали Законы Союзнического Контрольного совета (СКС) в Германии № 1 «Об отмене нацистских законов» от 20 сентября 1945 года и № 2 «Прекращение и ликвидация нацистских организаций» от 10 октября. Во втором законе говорилось, что «упраздняются и объявляются вне закона» НСДАП, «ее образования, примыкающие организации и органы, находившиеся под ее наблюдением, включая полувоенные организации, и все другие нацистские учреждения, установленные в качестве орудий для осуществления партийного господства» без возможности «преобразования любой из ныне перечисленных организаций под прежним или другим названием».
За этим последовал Закон СКС № 10 «О наказании лиц, виновных в военных преступлениях, преступлениях против мира и против человечности» от 20 декабря, который регламентировал привлечение к ответственности военных преступников, определял составы преступлений – против мира, против человечности, военные преступления, а также за принадлежность к таким организациям, как НСДАП, гестапо, СС.
Американцы, казалось, займутся денацификацией всерьез. В их зоне оккупации каждый взрослый немец должен был заполнить составленную спецслужбами анкету, которая содержала 131 (!) позицию. Зимой 1945 года каждый день в западногерманской прессе можно был прочитать информацию о работе трибуналов по военным преступлениям. 10 декабря в германском Аурихе канадским трибуналом за убийство по меньшей мере сорока одного канадского военнопленного был осужден бригаденфюрер СС Курт Мейер. В тот же день в американском лагере Бад-Тёльц покончил с собой Теодор Даннекер, один из ответственных за депортацию евреев из Франции и Греции.
Но США на глазах теряли интерес к денацификации. По мере того, как на первый план выходила борьба с Советским Союзом, бывшие нацисты все больше воспринимались не как военные преступники, а как перспективные партнеры.