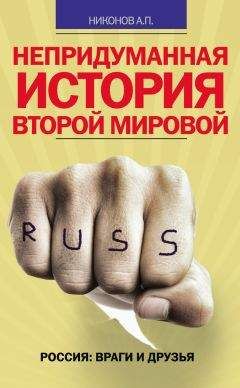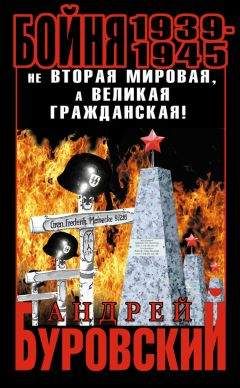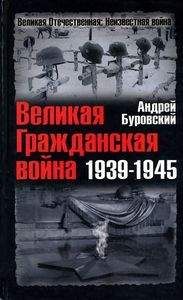От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
Всю осень 1945 года продолжались споры между комитетами сената о том, которому из них рассматривать законопроекты, затрагивающие ядерную энергетику. Спор был разрешен учреждением специально комитета по атомной энергии. Его возглавил сенатор от Коннектикута Брайан Макмагон.
30 ноября Трумэн разослал узкой группе заинтересованных лиц меморандум об управлении атомной программой, где предлагал изменить законопроект Мэя – Джонсона, чтобы усилить гражданский контроль в этой сфере. Однако через несколько дней Макмагон запросился на встречу, предложив пригласить на нее военного министра и министра военно-морских сил. Военные по-прежнему твердо настаивали на том, чтобы контроль находился в их руках.
Встреча состоялась в Белом доме 4 декабря. Кроме Паттерсона, Форрестола и Макмагона, участвовали генерал Гровс, директор Бюро стандартов доктор Эдвард Кондон и советник Комитета по атомной энергии Джеймс Ньюман. Трумэн подтвердил свою позицию: программа по атомной энергии должна находиться под гражданским контролем, и правительство должно обладать монополией на сырье, производственные мощности и технологии.
Сенатор Макмагон, согласившийся с такой концепцией, 20 декабря внес соответствующий законопроект. Но уже 27 декабря Паттерсон представил меморандум, в котором суммировал взгляды своих коллег, выступавших против законопроекта Макмагона. Вопрос завис.
Противники какого-либо диалога с Москвой явно набирали силу в американской администрации. Все громче звучал голос Кеннана, который писал: «Я не находил смысла в попытках спасти все, что еще осталось от Ялтинской декларации об освобождении Европы. По моему мнению, не имело никакого смысла также участие некоммунистических министров в правительствах ряда восточноевропейских стран, находившихся под полным советским контролем. А поэтому для меня было совершенно абсурдным сохранение видимости трехстороннего единства».
Одновременно с этим ряд влиятельных чиновников – заместитель госсекретаря Дин Ачесон, Чарльз Болен – предлагали признать советскую сферу влияния в Восточной Европе и отказаться от поддержки там антисоветских сил взамен на обещание Москвы оставить эти страны открытыми для западного влияния. Ведущие ядерщики, включая Ферми и Сцилларда, по-прежнему предлагали поделиться с СССР секретом ядерной бомбы. Американское общественное мнение еще не отошло от чувства благодарности Советскому Союзу за разгром нацизма.
Тупиковость в отношениях с Москвой не устраивала и амбициозного Бирнса. И он решил протянуть руку, предложив провести конференцию министров в ялтинско-потсдамском формате. Эта светлая мысль пришла в голову Бирнса в День Благодарения: «Неожиданно я вспомнил, что в Ялте условились проводить встречи трех министров иностранных дел каждые три месяца… Встреча трех министров должна вновь привести в движение механизм установления мира. Я подумал, что стоило попытаться, и на следующее утро направил послание мистеру Молотову со ссылкой на ялтинскую договоренность и на то, что министры уже встречались неформально в Сан-Франциско, Потсдаме и Лондоне, но не в Москве. Поэтому я предложил провести встречу в российской столице. Я чувствовал, что, учитывая русское гостеприимство, советское правительство пришлет соответствующее приглашение, и если мы встретимся в Москве, то сможем переговорить со Сталиным и снять преграды на пути мирных договоров».
Послание Бирнса Гарриман, как мы помним, доставил Молотову 24 ноября. Особенно Москве понравилось, что госсекретарь не ставил никаких предварительных условий, готов был обсуждать на встрече любые вопросы и внес предложение о ее проведении без согласования с Лондоном, что давало намек на возможность игры на «межимпериалистических противоречиях».
Но в Москве не знали, что Бирнс уже находился на подозрении у Трумэна как человек, покушавшийся на его полномочия.
«Пожалуй, никто в правительстве не обладал таким большим опытом работы, как ДжеймсФ.Бирнс, – напишет Трумэн. – Будучи сенатором, он являлся лидером пропрезидентских сил. Он нес службу в Верховном суде страны. Оттуда президент Рузвельт пригласил его в исполнительную власть, фактически назначив помощником президента по вопросам государственной экономики. В политических кругах было известно, что Бирнс надеялся быть избранным в качестве напарника Рузвельта в 1944 году.
Занимая в годы войны руководящую должность, Бирнс пользовался беспрецедентной свободой действий. Президент Рузвельт делегировал ему все необходимые полномочия, чтобы тот управлял национальной экономикой, не вмешиваясь в военные дела. Такая договоренность позволила президенту Рузвельту посвятить все свое время и энергию главным образом ведению войны и международным отношениям. Но это делегирование президентских полномочий оказало на Бирнса необычайное влияние. Оно заставило его поверить в то, что как должностное лицо исполнительной ветви власти он может иметь полную свободу действий в пределах своей сферы обязанностей. На самом деле он пришел к выводу, что его суждения были вернее, чем у президента.
Осенью 1945 года я все больше и больше убеждался в том, что в своей роли государственного секретаря Бирнс начинает считать себя помощником президента, полностью отвечающим за внешнюю политику. Видимо, он не понимал, что по Конституции президент обязан брать на себя всю ответственность за ведение иностранных дел. Президент не может отказаться от этой ответственности, и он не может передать ее кому-либо другому».
Бирнс, направляясь в Москву, на самом деле не имел никакого мандата от Трумэна.
Великобритания – Эттли и Черчилль
Лейборист Клемент Эттли, возглавивший британский кабинет, был человеком непритязательным, у которого, как едко заметил Черчилль, «для скромности есть все основания». Впрочем, бывший премьер-министр не жалел и других язвительных эпитетов в отношении премьера действовавшего. Так, Черчилль называл Эттли «овцой в овечьей шкуре».
Новый премьер действительно вел себя вызывающе скромно. Ездил сам за рулем небольшого автомобиля, да еще и возил свою супругу, не пользуясь услугами шофера. Эттли приходил на заседания парламента пешком, а оттуда так же пешком двигался на ланч в свой клуб.
Ключевыми фигурами в правительстве помимо известного нам главы МИД Эрнста Бевина были заместитель премьер-министра Герберт Моррисон и министр здравоохранения горячий и вспыльчивый Эньюрин Бивен. Хотя в годы войны эти однопартийцы вместе работали в коалиционном правительстве, отношения между ними были далеко не дружескими. Услышав, что кто-то назвал Моррисона «злейшим врагом самому себе», Бевин не согласился:
– Нет, пока я дышу, его злейший враг я, а не он!
Англии остро нужны были деньги. Экономические переговоры Соединенных Штатов и Соединенного Королевства начались в Вашингтоне 11 сентября. Британскую делегацию возглавляли лорд Кейнс и лорд Галифакс. Американскую представляли заместитель госсекретаря Клейтон и министр финансов Винсон. Было достигнуто общее согласие, что Соединенные Штаты должны оказать существенную помощь Великобритании.
20 сентября Кейнс заявил, что минимальная сумма, в которой Англия нуждалась, составляла 5–6 млрд долларов. Однако у американской делегации было другое мнение. Клейтон готов был согласиться на 4 млрд долларов, но Винсон называл 3,1 млрд в качестве максимальной суммы. Переговоры заняли несколько месяцев. Американцы в конце концов расщедрились на 3,5 млрд как справедливый минимум и 4 млрд долларов как максимум. Закон о британском займе будет подписан Трумэном только 15 июля 1946 года.
Английский историк Саймон Дженкинс замечает: «Лейбористы пытались сохранить то настроение чрезвычайного положения, которое сплотило нацию во время войны, утверждая, что централизованное управление экономикой, которое было введено во время войны, должно сохраняться и далее, „чтобы добиться мира“. Государственный контроль распространялся на все аспекты экономики и жизни общества – и он был гораздо строже, чем даже во времена Первой мировой войны. Лейбористы использовали госконтроль в стремлении ввести в стране некий утопический социализм».