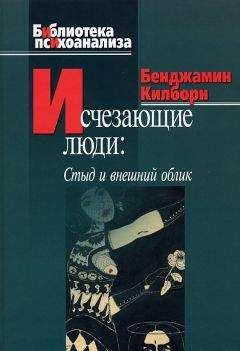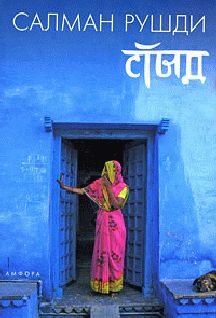Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер
И тем не менее воображаемый стыд детства будет бередить память писателя. Его вымыслы, навязчивые идеи и послевкусия ныне и присно станут терзать его творения. Преодоленная слабость придаст дополнительные силы литературе как самовымыслу. В исправительной колонии Меттре Жене, по его словам, «ужасно стыдился своей остриженной головы, отвратительного наряда и своего заключения в этом гнусном месте» и ощущал «презрение других колонистов, более сильных и более жестоких»[55]. Его решение стать писателем — это ответ, механизм выживания, выработанный, чтобы противостоять воспоминанию о реальном или вымышленном страдании. Вы считаете меня негодяем, трусом, предателем, вором, педиком? Вы готовы из-за этого превратить меня в изгоя? Я не обману ваших ожиданий. Я сделаю из этого чудо исключительности. Моя победа будет словесной.
Нагое отрочество
Я подурнела, мой нос сделался красным; на лице и затылке появились прыщи, которые я нервно теребила. Моя мать, измученная работой, одевала меня кое-как; мешковатые платья еще сильнее подчеркивали мою неловкость. Запертая в своем неудобном теле, я погружалась в фобии: например, я не могла пить из стакана, из которого уже пила. У меня начался тик: я беспрерывно пожимала плечами, крутила нос. «Не расчесывай прыщи, не крути нос», — повторял мне отец. Своими беззлобными, но и безучастными замечаниями по поводу цвета моего лица, моих угрей, моей неуклюжести он только усиливал мою зажатость и мои мании. Симона де Бовуар
Посмотрите на них, на этих увальней, на их ноги-ходули, на этих маленьких толстячков, на эти красные лица, на этих подростков вечно не в своей тарелке. Они не знают, куда девать руки, им тесно в одежде, они шаркают ногами и бормочут что-то невнятное. Неловкое и неуклюжее тело, которое, само того не желая, растет во все стороны, внезапно появившиеся груди, неуютно чувствующие себя на своем месте под нескромными взглядами, появление месячных, воспринимаемое как нечистота: это прыщавый, неотесанный, угреватый, набухающий и созревающий возраст, сильнее, чем любой другой, зависимый от речи и взгляда других, возраст, когда краснеть становится опасно (если краснеет ребенок, он остается очаровательным, если краснеет подросток, он начинает расплачиваться за свой детский стыд), когда вас ранят или берут в плен слова других — простофиля, недотрога, дылда, тюфяк, жиртрест, пугало огородное, очкарик, толстяк, рахитик…
* * *
На поверхности подростковых тел стыд, это стихийное бедствие, оставляет поистине неизгладимые отпечатки. Он устраивается там, как у себя дома, порождая юношескую прыщавость, притягивая взгляд другого, перенося свои тревоги на трепещущую плоть юной девушки, тяготящейся своим телом, проникая во все поры или даже в звучание имени, ставшего кличкой. И это все длится, и длится, и длится… В то мгновение жизни, когда телесный мир должен был бы открыться перед вами, он, наоборот, захлопывается. Это тот возраст, когда предаются «вредным привычкам» (это выражение встречается и у Мисимы, и у Жида, и, например, у Амоса Оза в «Повести о любви и тьме») и чувствуют себя — вопреки своему желанию, вопреки различиям фантазий и тайн — охваченными общей для всех навязчивой идеей — той, о которой пишет Мисима в «Исповеди маски»: «Моих ровесников […] как раз посетила невеселая пора созревания. Мальчишки постоянно думали только об одном, исходили прыщами, а их одурманенные мозги порождали на свет Божий невероятное количество сладеньких стишков о любви. Одни медицинские энциклопедии утверждали, что онанизм наносит непоправимый ущерб психике и здоровью; другие успокаивали — ничего особенно ужасного. Мальчишки больше верили последним и самозабвенно предавались рукоблудию. Но ведь и я тоже! Обманывая сам себя, я помнил только об этом чисто внешнем сходстве, совершенно не учитывая различия в природе наших вожделений»[56].
* * *
Вам пятнадцать лет, вы наконец-то можете называться девушкой, но вы без конца смотритесь в зеркало, на улице ощущаете тяжесть взглядов, которые бросают на вас парни, вы прочли слишком много книг и модных журналов, вы живете во власти недостижимых образцов: «Праздник не желал начинаться. Высокая девушка, одетая солидно, но несколько в духе „молодой человек, пойдемте со мной“, с жесткими волосами, подвергшимися ритуальной завивке в мае, после последнего причастия, — словом, то, что мужчины называют толстушка».
Вы на улице, вам семнадцать, вы наконец-то почти стали тем, кем грезили стать в детстве, — молодым человеком, вам кажется, что вы освободились от семьи, вы начали уходить от нее, будущее раскрывает вам свои объятия, вы говорите себе: «Прощай, ребяческий стыд! Прощайте, маленькие унижения детства!» Итак, вы свободны? О нет. Дело в том, что вы ощущаете себя неловко в своих собственных глазах. И улица об этом знает, улица видит это глазами каждого безымянного прохожего, а главное — каждой прохожей. Когда человеку семнадцать, ему стыдно. Как бакалавру Валлеса: «Двадцать четыре су, семнадцать лет, плечи атлета, зычный голос, зубы, как у собаки, оливковая кожа, руки лимонного цвета и волосы черные, как смоль. Наряду с наружностью дикаря — необычайная застенчивость, делающая меня неловким и несчастным»[57].
Взгляд других стал более весом. Вы чувствуете, что в вас уже пытаются предугадать будущего мужчину или женщину, и к этому ощущению прибавляются микродозы вашего детского стыда, который вы сберегли в целости и сохранности. Вы предпочли бы обзавестись новым телом, приобрести представительность и уверенный вид. Но все в вас выдает ваше происхождение, неврозы ваших предков, то, что из вас сделали. «У меня долго не было своих платьев, — рассказывает Дюрас. — Все мои платья похожи на мешки — они перешиты из старых платьев матери, тоже похожих на мешки»[58]. Если вы не хотите быть похожей на мать и носите ее одежду, вы носите на себе стыд своей матери. Совсем юная девушка, героиня романа «Любовник», — как раз то самое тело, которое, в мужской шляпе и в платье с очень глубоким вырезом, начинает понемногу освобождаться от этой власти.
Вы никогда не забудете время, когда во всем зависели от отца и матери, когда вас одевали вопреки вашему желанию. В романе Жюля Валлеса ребенок, став подростком, восклицает: «Мой костюм всегда будет давить на меня!» Навязанная одежда, из самых лучших побуждений скроенная матерью из семейных запасов, наряды, которые она считала великосветскими, вроде «сюртука по-польски», он воспринимал как унижение. Подросток чувствует, что его тело ему не принадлежит, и главные виновники этого отчуждения — господин Отец и госпожа Мать, как называет их месье Эрмес, от лица которого ведется повествование в романе Раймона Герена «Подмастерье»: «Госпожа Мать — нет, она ни о чем не догадывалась, сколько бы раз ее сын ни краснел от того, что чувствовал на своем костюмчике чужие пристальные взгляды. И каждый раз, как он из-за этого краснел, она, госпожа Мать, не догадывалась и о том, что это ужасающим образом увеличивало ту ненависть, которую он испытывал по отношению к ней. […] Как только у него появлялась потребность в одежде, вместо того, чтобы купить ему что-нибудь новое, госпожа Мать раздобывала для него что-нибудь в комиссионке или предлагала заваль, брошенную господином Папой. Не знала она, что ли, какая радость для подростка носить костюм, который кажется сшитым специально для него? Ребенком он не обращал на это внимания, но лет с пятнадцати это стало его по-настоящему унижать».
Месье Эрмесу скоро исполнится девятнадцать. В этом возрасте, если вы идете по улице, самое главное — то, что происходит между вашей одеждой и вами, между вашим телом и вами. И в этом возрасте, еще скорее, чем в любом другом, что-нибудь обязательно оказывается не так. В случае месье Эрмеса это пристежной воротничок, который все время задирается: «Каждые десять метров ему приходилось его поправлять. Его можно было принять за страдающего нервным тиком идиота. Он понимал это даже слишком хорошо. Отчасти в этом был виноват и голубой в белый горошек шелковый галстук с большим бантом, которым он не мог щеголять с надлежащей убежденностью». Проблема сформулирована с отменной точностью: можно носить что угодно, главное — делать это «с надлежащей убежденностью». Юная героиня «Любовника», несмотря на свой неподобающий наряд — мужскую шляпу и туфельки из золотой парчи на высоких каблучках, — выпутывается из этого куда лучше. Никто не смеется над ней, и именно потому, что она носит этот наряд «с надлежащей убежденностью».