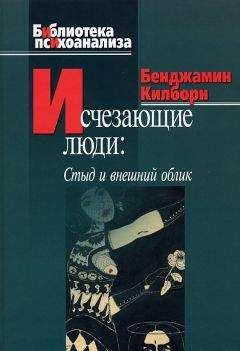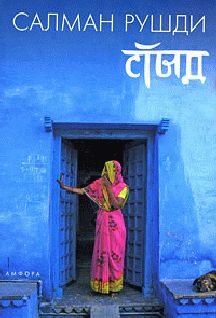Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер
(Бурдьё, Коэн, Низан)
стыд — он ничем не смыт,
он студит тебя и судит
и, словно скотинку,
стрижет под сурдинку. Мишель Лейрис
Вернитесь к покинутым местам детства — там вы найдете в неизменном виде не только любовь и ненависть, но и ваш застарелый стыд. Стыд подобен ностальгии — он имеет свои следы, спады и всплески. Злоупотребив интроспекцией, он начинает беззастенчиво эксплуатировать ретроспекцию. У Гомбровича, как и у Руссо, он возрождается под прикрытием формулы «еще и сегодня»: «И сегодня еще краска стыда бросается мне в лицо, когда я вспоминаю свои тягостные промахи сорокалетней давности». В некотором смысле стыд — это везение. Ведь у него есть свои добродетели, неведомые уму циника. В этом его очарование: в конечном счете он — всегда ребячество. Он напоминает нам о времени, когда мы просыпались для мира. В пьесе Дюрас «Целые дни напролет под деревьями» старая мать, угадав, что у ее сына, ставшего взрослым, стойко сохраняется детский стыд, не может удержаться от ощущения «восторга»: «Увидев, что сыну стыдно, она перестала на него смотреть. Только оттого она и страдала, что ему было стыдно. Оттого и страдала и восторгалась одновременно, что он, испытывая стыд перед матерью, был так трогательно юн и что она наконец вполне обрела его вновь — в этом ночном одеянии, таком же прозрачном, как когда-то. Она спросила себя из дальней дали, где-то в туманных глубинах своего слабеющего разума, кто же таким образом оберегал его для нее среди всех этих людей, и поняла, что ей повезло». Действительно, разве это внутреннее присутствие материнского взгляда — не клятва в верности прошлому? не свидетельство непрерывности бытия?
* * *
В 60-е годы, после исследований в Кабилии, Пьер Бурдьё возвращается на родину, в Беарн. На первый взгляд причина вполне убедительна: еще одно исследование. Ничего похожего на возвращение к истокам или внезапную ностальгию. Чисто интеллектуальный маршрут привел сюда, к следам прошлого, ребенка из небогатой семьи, отныне призванного повсюду вскрывать особенности социальных отношений. Но случайность ли это, этот эпизод из Bildungsroman (романа воспитания), который он пересказывает в своем литературном завещании — запоздалой и скудной исповеди под названием «Наброски для самоанализа»? То немногое, что он приоткрывает для нас в своем детстве, рассказывает нам, почти против его воли, о том, что Бурдьё называет своим «расколотым габитусом».
Здесь, возобновив общение с друзьями детства и родными, наблюдая за их поведением, повседневными привычками, манерой речи, он, как ему кажется, переживает одновременно посвящение и примирение. «Ко мне вернулась целая часть меня самого, та самая, которой я тянулся к ним и которая отдаляла меня от них, потому что я не мог отрицать ее в себе, не отрекаясь от них, стыдясь их и самого себя», — пишет он в «Набросках для самоанализа». С этого момента исследование принимает эмоциональный характер встречи после долгой разлуки. Работая нал текстом, ставшим итогом этой работы, — об обете безбрачия у старших членов семьи в Беарне, — Бурдьё, по его словам, ощущал. что «совершил нечто вроде предательства»; это вынудило его к своего рода «объективистской сдержанности» и подтолкнуло к полному отказу от переизданий.
Этот социально-самоаналитический стыд, подспудно сопутствовавший всей интеллектуальной жизни Бурдьё, безусловно, можно проследить в стилистике его трудов — от Кабилии, «Наследников» и «Различия» до «Нищеты мира» (и даже до вступительной лекции по случаю его избрания профессором Коллеж де Франс). Значимы уже сами заглавия. Они отсылают к глубоко скрытой навязчивой идее: я, Пьер Бурдьё, пришелец из других мест, издалека, из низов, из другого говора, из другой Франции, вечно пребывающий на периферии интеллектуального мира и в то же время пользующийся этим окольным положением. В более общем плане он одержим стремлением выявить во всякой мысли и особенно — в мысли, которая маскируется, рядится в одежды научной рациональности, субъективный провал, глубинную травму, след унижения и желания, присутствие тела, утраченный акцент, потерянную тайну.
* * *
Теперь, когда мама умерла, говорит в «Книге моей матери» Альбер Коэн, уже слишком поздно. Но память противится: «И вспоминать мне много лет, ах, худшей горести мне нет!»[60] Я вспоминаю обо всех заботах матери, о ее бесконечных ожиданиях, а еще я вспоминаю обо всех своих отговорках. Сколько бы страниц я ни написал, этого никогда не хватит, чтобы возместить письма, не написанные при жизни матери, и лаконичные телеграммы, заканчивавшиеся сакраментальным «подробности письмом», за которыми ничего не следовало.
Не столько стыд, сколько угрызения совести? Вы так считаете? Я предпочитаю говорить о стыде: настолько сильно ретроспективное настоящее зависит от прежнего смятения чувств. Ведь, согласитесь, главный стыд Коэна, помимо стыда неблагодарного сына (все сыновья неблагодарны, ироничны, все сыновья не способны ответить на материнскую любовь любовью столь же сильной), — это стыд сына, стыдящегося своей стыдящейся матери. Стыд того, кто, порвав с прошлым, стерев из памяти убогое детство еврея-сефарда, испытывает стыд, замечая у матери его следы. Одним словом, стыд стыда. Стыд двух вечных материнских жестов, которые были жестами стыда.
«Сначала, с глазами, светящимися застенчивым счастьем, ты без всякой нужды указывала на меня пальцем с полным достоинства восторгом — чтобы показать мне, что ты меня видишь, на самом же деле — чтобы скрыть смущение. Порой, видя этот нелепый жест, ожидаемый и так хорошо знакомый, которым ты отличала меня от всех остальных, я едва сдерживал идиотский смех раздражения и стыда. А потом, дорогая, ты вставала и шла мне навстречу, зардевшаяся, взволнованная, открытая всем взорам, неловко улыбаясь оттого, что тебя видно издалека и за тобой наблюдают слишком долго. Медлительная, смущенная, ты приближалась с восторженной и стыдливой улыбкой неуклюжей маленькой девочки, одновременно впиваясь в меня глазами, чтобы понять, не осуждаю ли я тебя внутренне. Бедная Мама, ты так боялась не понравиться мне, оказаться недостаточно западной по моим меркам. Но у тебя был и второй жест, выражавший твою застенчивость. Как хорошо я его знаю и насколько живо встает он перед моими глазами, слишком четко видящими все, что было в прошлом. Подходя ко мне, ты подносила свою маленькую руку к уголку рта, а другая твоя рука, как маятник, покачивалась в такт твоим шагам. Это наш, восточный жест, жест стыдливых девственниц, которым они прикрывают лицо».
Мать — та, кого прячут от взглядов других. Материнское тело несет в себе все мании, все семейные причуды, отразившиеся и на теле сына — против его воли. Оно передало ему тот «неистребимый восточный акцент», над которым «насмехаются» лицейские товарищи, пока юный Коэн строит честолюбивые планы на бакалавриат. Власть отпечатка, наложенного родителями — «двумя беглецами с Востока», «нулями в общественном смысле, затворниками без малейшего контакта с внешним миром», — неодолима, как неодолима связь, которой мы стремимся пренебречь.
Такова еще одна ипостась стыда, еще одно блюдо, которое нужно подавать холодным: стыд как навязчивый рассказ, как бесконечная ретроспектива, приговор повторять одно и то же, оценивать потери, подсчитывать бесчисленные обиды, промахи, неисполненные обязательства полученной и невозврашенной любви вечно неблагодарного сына. Для Коэна, как и для Анни Эрно, литература — это попытка возместить непоправимый ущерб. Подобно коллективной памяти, она прославляет и оплакивает постфактум. Отныне — больше никогда, отныне — слишком поздно: мама умерла. «Да, я знаю, что без конца твержу одно и то же, хожу по кругу и повторяюсь. Это боль от пережевывания, которую доставляет челюстям вечное движение. Это я мщу жизни, скрепя сердце втолковывая себе, как добра была моя погребенная мать».