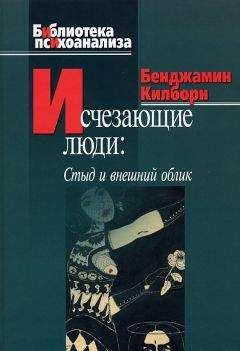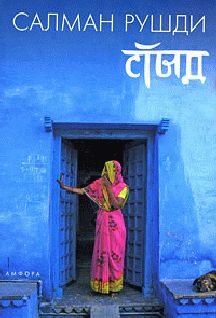Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер
История притеснений и преследований, противопоставляющая отказ от своего происхождения всякому достоинству, рождает перемещенных лиц, людей без кожи, изгнанников навечно. Вот еще одна безвыходная ситуация: белый в Южной Африке. Как отделить ваш личный стыд от вашего общественного и семейного положения и от исторической ситуации в целом? Испытывая стыд колонизатора, незаконного хозяина, Кутзее чувствует себя чужим для африканеров, очень далеким от метисов и при этом — ненастоящим англичанином. В детстве он особенно остро чувствует стыд по отношению к одному бедному мальчишке-метису; он втягивает голову в плечи и не хочет даже смотреть на него — при том что тот очень красив. Этот метис с его «новеньким», «нетронутым» телом служит ему «живым упреком»: он кажется ему невинным, «тогда как сам он, во власти своих темных желаний, виновен».
Но в конечном итоге кто знает, не испытывает ли метис, о котором рассказывает Кутзее, в свою очередь, стыд — по совершенно другим причинам, так что это остается незаметным для окружающих? У каждого свой стыд, непреоборимый, отгороженный от других, как и у каждой группы людей. И в то же время в стыде, как и в смерти, хозяин и челядинец испытывают глубинную солидарность. Каждый в глубине души наг, и эта нагота не похожа ни на чью другую и стоит всех остальных.
* * *
Поляк, выходец из семьи литовской знати, воспитанный матерью, считавшей аристократизм «чем-то совершенно естественным», Витольд Гомбрович был предназначен для занятий юриспруденцией. Его родители принадлежали к поколению, которое в социальном смысле практически не знало того, «что Гегель назвал „нечистой совестью“». «Мы, Гомбровичи, всегда считали себя „на ступеньку выше“ сандомирских землевладельцев». Если бы Гомбрович-сын полностью проникся семейной идеологией, он, в соответствии с чаяниями своего окружения, непременно сделался бы юристом или нотариусом. Но это сильнее его, он не может уютно устроиться в стенах фамильного особняка, потому что мало-помалу начинает ощущать относительность и случайность доставшегося ему наследства. Столкнувшись с аристократией, обнаружив, что его знатность не столь уж и блистательна, он внезапно испытывает деревенскую застенчивость и проявляет «неловкость, обычную для крестьянских семей». Ему случилось также похваляться своей «жалкой генеалогией» и, к его величайшему стыду, быть уличенным во лжи. Но там, где могло бы находиться его королевство, Гомбрович-ребенок, предводительствующий ватагой маленьких поселян, проходит через забавный опыт владычества. «Я был в странном положении. Теоретически я был повелителем, молодым господином, высшим существом, призванным руководить, но на практике все атрибуты моего владычества, такие, как ботинки, куртка, шарфик, гувернантка и — о ужас! — калоши, ввергали меня в бездну унижения, и я с тщательно скрываемым тайным восторгом упивался зрелищем босых ног и холщовых рубашек моих подданных. Это чудовищное по своей тяжести испытание навсегда отложилось в моей памяти и впоследствии проявилось в моем творчестве в форме сатиры, направленной против владычества, против превосходства, против зрелости. Именно в эту пору, примерно десяти лет от роду, я открыл нечто жуткое: что мы, „господа“, представляем собой явление совершенно нелепое и абсурдное, дурацкое, болезненно смешное и даже отвратительное…»
Позже Гомбрович сумел перейти в контрнаступление. В его случае преодоленное чувство стыда способствовало обострению чувства нелепого. Рождая непреодолимую дистанцию с самим собой, стыд, согласно Гомбровичу, становится источником литературы как упражнения в шутовстве. Для того, кто, в отличие от Амери или Аппельфельда, не попадал в критические ситуации, эксцентричная ирония может стать выходом. Но за свободой писателя неизменно присматривает История. Отказ от своего происхождения как основа литературного замысла не всегда оказывается хорошим выбором. Маргинальность — не обязательно привилегия. Литература может быть и жаждой происхождения, жаждой укорениться, преодолеть стыд парии.
Проклятые места, места становления
Тот, кто знает, что такое интернат, в двенадцать лет знает о жизни почти все. Гюстав Флобер. Мемуары безумца
Вернемся в детство. Если бы не было никого, кроме папы и мамы… семьи… этого мучительного опыта, благодаря которому мы так рано усвоили наши ориентиры и привычки… вместе с защитными рефлексами… Но вот мы высаживаемся на незнакомом берегу, где нам ежедневно угрожают другие, — соученики, надзиратели, преподаватели, товарищи по комнате. Мы чувствуем себя грубо выброшенными в мир. Мы внезапно открываем, что у нас есть происхождение, что мы — существа социальные. Мы, как никогда раньше, прислушиваемся к звучанию наших фамилий, произнесенных чужими голосами. Писатель на своем примере размышляет об этой первой в жизни боли — ощущать, что твое сопротивляющееся тело приковано к стальной решетке группы.
Бывают дети, истязаемые мучителями, бывают чудовищные унижения — те, о которых пишет Музиль в «Душевных смутах воспитанника Тёрлесса», те, которым, по его собственным словам, в одиннадцать лет подвергался в школе Гомбрович — «ужасные пытки», сопровождаемые диким ржанием. Но есть другие, не столь явные опасности, поджидающие нас в темноте спален: «Ребенок, застигнутый врасплох во время сна, — пишет Георг Артур Гольдшмидт, — ребенок в интернате, с которого сорвали одеяло, поставлен в безвыходную ситуацию, застигнут врасплох, лишен прикрытия, обречен на стыд и ненависть, быть может, до конца своих дней».
Интернаты, пансионы, исправительные колонии, коллежи и прочие детские дома служат питательным раствором для культуры детского и подросткового стыда. Это там еще лепечущее существо, к несчастью своему, приговорено к жизни в коллективе; это там тело, во всех его интимных подробностях, отдано на всеобщее обозрение. У Поуиса воспоминания о пансионе школы в Шерборне связаны с ужасом всеобщей скученности, а точнее — со стыдом мочиться в присутствии других. Интернат, вспоминает Бурдьё, не оставляет для одиночества «ни единого закоулочка, ни единого убежища, ни единой передышки».
Вот под ферулой надзирателей маршируют, построившись и держа равнение, постыдные переживания детства, маленькие и большие. И однако, кто осмелится заявить, будто установил иерархию испытанных унижений? Возьмем фамилию, именование по фамилии: да, пустяк для одних, но для других — ужасная тягота. Выговорить свои имя и фамилию, громко произнести их вслух — это может быть настоящей пыткой. Именно так случилось с юным Альбером Мемми: «Меня зовут Мордехай-Александр Бениллуш. О, эта желчная усмешка моих товарищей! Никогда прежде я не знал, что у меня настолько смешное, настолько разоблачительное имя. В лицее я узнал об этом сразу, когда меня в первый раз вызвали к доске. С тех пор одно только упоминание моего имени, от которого у меня учащался пульс, внушало мне стыд». Александр — имя, которое дали ему родители из почтения перед Западом. Трескучее и смешное. Мордехай (в уменьшительной форме Мридах, имя дедушки, жившего в гетто, и одного знаменитого покойника) — неотменимый знак принадлежности к еврейской общине и еврейской традиции. Бениллуш, то есть Бен-Иллуш, «сын ягненка» на берберо-арабском диалекте: «Интересно, из какого горного племени вышли мои предки?» «Я навсегда останусь Александром-Мордехаем, Александром Бениллушем, туземцем в колонизованной стране, евреем в антисемитской вселенной, африканцем в мире, где торжествует Европа».
Характеристики гражданского состояния звучат порой, как пощечины. Они обнажают для всех, кто их слышит, как раз все то, что ребенок хотел бы скрыть, все, с чем он жаждет порвать, — еврейскую сущность, жизнь в гетто, статус туземца, восточные обычаи. Подросток прежде всего пытается избавить себя от имени Мордехай, взяв привычку проглатывать его, представляясь, забывать, как «старую кожу». Писатель назовет себя Альбером Мемми: разве не становятся писателем главным образом для того, чтобы сменить имя? родиться заново? уйти от стыда, вытащить себя за волосы из нежеланного происхождения, из непереносимого, лишенного опоры положения? В то же время Мемми вернется к своему еврейскому происхождению, которое в детстве прилипло к его коже, он попытается нарисовать мистический, воображаемый портрет еврея, который был ему навязан.