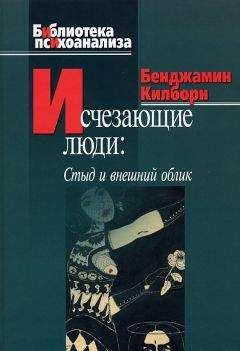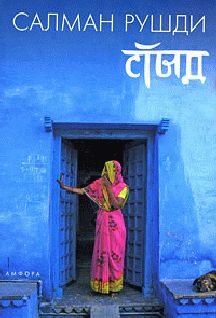Книга стыда. Стыд в истории литературы - Мартен Жан-Пьер
* * *
В романе о детстве Альбера Камю, тоже обладателя государственной стипендии, дело обстоит иначе. Хотя стартовые условия приблизительно те же. Среди поводов для стыда (поводов, образцовых для бедняка, к которым примешивается стыд потерявшего родину) почетное место у юного Камю занимает одежда. Навязанная, а не выбранная, плохо пригнанная, болтающаяся или, наоборот, слишком узкая на вечно напряженном теле, а главное — слишком длинная, потому что бабушка покупала вещи за то, что они растягиваются, она определяет всю жизнь ребенка, словно неизгладимый след его происхождения. «…Жак рос медленно и только годам к пятнадцати вытянулся по-настоящему, так что одежда снашивалась прежде, чем оказывалась ему хороша. Новую покупали, исходя из тех же принципов экономии, и Жаку, которого дразнили однокашники, не оставалось ничего другого, кроме как перетягивать плащ поясом и носить с напуском, дабы сделать оригинальным то, что было смешным»[52]. В лицей Жак Кормери впервые приходит, «неуверенно ступая в новых толстых ботинках, затянутый в вычурную с иголочки рубашку, с прицепленным сзади ранцем, благоухающим лаком и кожей».
Этот стыд себя как ребенка из бедной семьи многократно усиливается стыдом бабушки и матери: они неграмотны, не умеют даже поставить подпись. Во время сеансов немого кино мальчик принужден читать бабушке появляющиеся на экране титры, повторяя их как можно громче, чтобы она наконец расслышала его сквозь грохот фортепиано, и раздающееся со всех сторон шиканье заставляет его «сгорать от какого-то гадкого стыда»[53]. На первых порах такой опыт обрекает его на горестное молчание. Впоследствии, с обретением знаний и постоянным посещением лицея, рождается сознание непоправимого разрыва с родней. «В самом лицее он не мог говорить о семье, необычность которой он ощущал, не умея ее выразить, даже если ему удавалось справиться с непобедимой стыдливостью, затыкавшей ему рот, едва об этом заходила речь».
Но Камю — или, точнее, Кормери — всегда чувствует себя заодно с родными. Свою детскую травму он смог преодолеть благодаря какой-то чуть ли не ярости, но также и «жестоковыйной и дурной гордыне». «При всем этом Жак ни единого мгновения не хотел бы переменить свою участь и свою семью, и его мать — такая, какая есть, — оставалась для него самым любимым существом на свете, пусть это и была любовь пополам с отчаянием. Как же объяснить окружающим, что ребенок из бедной семьи порой может испытывать стыд, никогда ничему не завидуя?»
Таков этот роман-воспоминание, может быть, роман-идеализация. Неужели Альбер Камю, как и Жак Кормери, тоже всегда мечтал о том, чтобы не менять ни своего положения, ни своей семьи? Несколько в духе Пеги, он хотел бы чувствовать себя бесповоротно скроенным по мерке собственного происхождения. Лицом к лицу с матерью он, в отличие от Анни Эрно, никогда не ощущал себя классовым врагом — или, как Антуан Блуайе у Низана, реваншистом. Он ни разу не упомянул о возможности предательства. Но когда происхождение, на которое он претендует, возвращается, может быть, в конечном итоге это оно его предает. «Возможно, вы были бедны», — скажет ему Сартр в ходе полемики вокруг «Бунтующего человека». В устах богатого наследника, с иронией преподающего урок обладателю государственной стипендии, это «возможно» звучит убийственно. Одним росчерком пера оно задвигает эпизоды бедного детства, его горести и унижения в темные углы старинной лавки воспоминаний, словно безделушки, выставленные в ряд на пыльной этажерке. Полноте, Камю, нынче мы один на один. Поговорим о настоящем.
Богатые наследники стыда
(Аппельфедьд, Бассани, Гомбрович)
Кто из нас хоть раз в жизни, охваченный, ошеломленный стыдом, не желал умереть в ту же минуту? Жан-Поль Сартр
Можно ли считать детский стыд исключительной прерогативой простолюдинов? заводской маркой их чувствительности? Сводить его к своего рода привилегии наоборот, связанной с горестным или просто незнатным рождением, значило бы недооценивать глубинное единство хозяина и раба, прислуживания и служения, а самое главное — бесчисленные окольные пути стыда, его коварство, его способность овладевать всеми телами без исключения.
Ибо следует признать, что стыд отличается широтой взглядов. Он подобен ростовщику по отношению к его должникам: никакого предубеждения. Стипендиат будет до конца своих дней отдавать ему долги: стыд — это его ломбард. Но и богатому наследнику, возможно, придется выплачивать ему странные налоги угрызениями совести из-за своего обширного состояния. А кто выразит стыд мелкого буржуа? Или сына заурядного мелкого чиновника, запертого в тесном будущем, которого после тягостной учебы может ожидать только одно — жизнь, в которой ему до самого конца придется выбиваться из сил, чтобы отстоять место в кабине социального лифта? Или ребенка, неотступно терзаемого страхом разочаровать своих родителей, поставивших на него, как на скаковую лошадь? (Ведь, признаем, нелегко жить, будучи стыдом своих родителей, но быть гордостью своих родителей — это и вовсе невыносимый груз! Настолько, что, быть может, в этом гипотетическом случае ребенок вследствие страха однажды оказаться не на высоте подвергается, хотя и в другой форме, ничуть не меньшей опасности.)
Некоторые формы стыда переносимы или поддаются изменению. Другие безнадежны. Среди многочисленных разновидностей обнаженности некоторые более наги, чем другие. Социальные синяки и шишки, как и семейные тайны, распределены неравномерно. Видеть себя комическим персонажем в «болезненно смешном» (Гомбрович) мировом спектакле — тяжкое испытание. Но оно несравнимо с тем, чтобы пройти лагерь или Колыму.
В конце концов, разве не во всех классах встречаются бедные родители, отрезанные ломти и блудные сыновья? И разве не все времена порождают новые формы стыда? Тем не менее следует уточнить, что существуют виды наследства особенно тягостные. И геополитические ситуации, особенно способствующие отчуждению. Аарон Аппельфельд рассказывает многочисленные истории о евреях, испытывающих стыд, и о детях евреев, испытывающих стыд. В романе «Пора чудес» сын становится свидетелем чудовищных злоключений в антисемитской Австрии 1938 года своего отца-еврея, поневоле вынужденного открыть свое происхождение, которое он хотел бы стереть. В романе «И вдруг — любовь» другой сын подводит постыдные итоги прошлого: большевик, солдат Красной армии, он отрекся от своего еврейского происхождения и не понял молчания родителей. Безусловно, очень похоже обстоит дело у Бенни Леви, египетского еврея-апатрида, который, пройдя через стыд интеллектуала, стыд левака-интернационалиста, забывшего о своем еврейском происхождении, ошутил «жгучий стыд» за то, что долгое время играл «на Западе роль ученой обезьяны», — вплоть до того, что отныне все евреи XX века представляются ему «стыдящимися евреями».
Поневоле проснуться евреем в Австрии утром 12 марта 1938 года, увидеть в окно, как мимо проплывает квадрат кроваво-красной ткани с черным пауком на белом фоне, покинуть страну, отправиться с женой в Антверпен, ощутить себя «безымянным беженцем», стыдиться говорить на родном языке, ставшем языком нацистов, подвергнуться пыткам, быть отправленным в Освенцим-Моновиц, уцелеть, испытать стыд выжившего, больше нигде не чувствовать себя своим, писать под псевдонимом — это история Жана Амери, над которой он размышляет в книге «По ту сторону преступления и наказания: как перенести непереносимое».
В том же самом 1938 году вы — еврей в Италии Муссолини, выходец из почтенной еврейской семьи, занимающей видное место среди финансовой элиты Феррары. Только что были изданы расовые законы. Вы присутствуете при организованной кампании дискредитации евреев. Естественно, вы разрываетесь между стыдом и негодованием. Именно это происходит с рассказчиком-евреем в романе Джорджо Бассани «Очки в золотой оправе»: «с невыразимым отвращением» чувствуя, как в нем закипает «старинная атавистическая ненависть еврея ко всему христианско-католическому, короче говоря, к гоям», он с этого времени ощущает себя обреченным на возвращение в гетто своих предков. «Гои, гои: какой стыд, какое унижение, какое омерзение испытывал я, произнося эти слова! И все-таки я уже дошел до этого, словно какой-нибудь еврей из Восточной Европы, который никогда и не жил вне гетто».