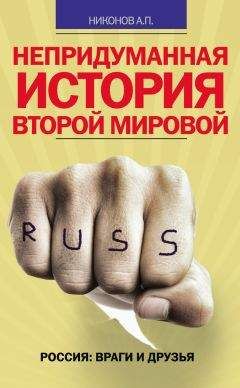От Второй мировой к холодной войне. Немыслимое - Никонов Вячеслав
Трумэн стоял на своем:
– Если в Италии имеются предметы для репараций, я совершенно согласен передать их Советскому Союзу. Но мы не готовы и не согласны предоставить Италии деньги для того, чтобы она из этих денег платила репарации союзным и другим странам.
– Я понимаю точку зрения президента, но я хочу, чтобы президент понял мою точку зрения, – настаивал Сталин. – Что дает моральное право советскому народу говорить о репарациях? Это то, что значительная часть территории Советского Союза была оккупирована вражескими войсками. Три с половиной года советские люди находились под пятой оккупантов. Если бы не было оккупации, может быть, у русских не было бы морального права говорить о репарациях. Может быть.
– Я вполне вам сочувствую, – нагло соврал Трумэн.
Сталин сделал вид, что пропустил ложь мимо ушей:
– Президент говорит, что, может быть, в Италии есть оборудование, которое понадобится русским, и, может быть, это оборудование пойдет для погашения репараций. Хорошо, я не хочу требовать многого, но я хотел бы установить примерную сумму этих репараций. Италия – большая страна. Какую сумму можно взять с Италии, какое будет ценностное выражение репараций?
Трумэн не смог ответить. Бевин предложил при установлении суммы репараций не учитывать того, что США и Великобритания дают Италии, а принимать в расчет только то, что у Италии имеется в настоящее время.
– Конечно, интересами Америки и Англии я пренебрегать не собираюсь, – обещал Сталин.
Эттли солидаризировался с Трумэном:
– Конечно, если в Италии имеется оборудование, которое можно изъять, то это другое дело, но на оплату репараций из средств, которые были даны нами и Америкой, наш народ никогда не согласится.
Сталин смягчил позицию:
– Мы согласны взять оборудование.
– Военное оборудование? – уточнил Эттли.
– Военное оборудование.
– Это будут единовременные изъятия военного оборудования, а не репарационные изъятия из текущей продукции?
– Единовременные изъятия.
Бевин спросил:
– Речь идет о военном оборудовании для производства военной продукции?
– Нет, почему? – заметил глава советского правительства. – Речь идет об оборудовании военных заводов, которое будет использовано для производства мирной продукции.
– Я имел в виду оборудование, которое не может быть использовано для мирного производства, – пояснил Эттли.
Сталин знал предмет явно лучше британского премьера:
– Всякое оборудование может быть использовано для мирного производства. Наши военные заводы мы переводим теперь на мирное производство. Нет такого военного оборудования, которое нельзя было бы пустить на производство мирной продукции. Например, наши танковые заводы стали производить автомобили. Нужно определить сумму репараций, причем я согласен получить небольшую сумму.
– Я думаю, что у нас нет больших разногласий в принципе по этому вопросу, – подвел итог дискуссии Трумэн. – Я только хочу, чтобы наши авансы, данные Италии, не были при этом затронуты.
Вернувшись поздно ночью в «маленький Белый дом», Трумэн сразу же отправился в комнату связи. Ему не терпелось узнать, чем закончатся дебаты в американском сенате о ратификации Устава Организации Объединенных Наций. Сообщение из Вашингтона было обнадеживающим: «Обсуждение Устава Организации Объединенных Наций прошло гладко. В течение этой недели выступило около сорока сенаторов. Никаких сложностей не возникло. Все указывает на то, что сенат проголосует по Уставу сегодня днем и сегодня же объявит перерыв. Хирам Джонсон сейчас в больнице. Уиллер и Ла Фойетт уже публично заявили, что будут голосовать за Устав, и, судя по всему, и Шипстед, и Лангер тоже будут голосовать за Устав. На открытии утреннего заседания Маккеллар зачитал послание президента, что вопрос о вооруженных силах будет закреплен совместной резолюцией, а не договором. Это произвело благоприятный эффект». И Трумэн уже был в постели, когда ему принесли телеграмму от Стеттиниуса: «Сенат только что ратифицировал Устав Организации Объединенных Наций 89 голосами. Против ратификации проголосовали сенаторы Лангер и Шипстед».
А Черчилль 28 июля отправился на Даунинг-стрит, 10 в имение Чекерс, которое Эттли предоставил в его распоряжении на выходные. Имение Чартвелл Черчиллям еще предстояло освоить, набрать штат прислуги. Собирались они приобрести и дом в Лондоне – на Гайд-парк-Гейт, 28, – но сделка еще не была оформлена.
Вечером Черчилли вместе с некоторыми друзьями собрались на свой последний уик-энд в Чекерсе. После ужина и просмотра кинохроники и документального фильма «Истинная слава» о победе союзников в Европе спустились вниз. Черчилль совсем пал духом и признался дочери Мэри:
– Тут-то мне и не хватает новостей. Работы нет – заняться нечем.
Мэри напишет в дневнике: «Мучительно было смотреть, как этот великан среди людей, оснащенный всеми умственными и душевными способностями, натянутыми до предела, точно пружина, уныло бродил по комнате, не в состоянии как-то применить свою колоссальную энергию и безграничные таланты, – тая в своем сердце скорбь и разочарование, о которых я могу лишь догадываться… То был худший момент за все это время».
Родные ставили его любимые пластинки – Гилберта и Салливана, но это не помогало. Несколько французских и американских маршей пробудили, как они вспоминали, «нотку надежды» на улучшение настроения. Затем раздались «Беги, кролик, беги» и – по заказу самого Черчилля – «Волшебник из страны Оз». Они его слегка «ободрили».
«Наконец, в два часа ночи он достаточно утешился, чтобы почувствовать сонливость и пожелать лечь в постель, – писала Мэри. – Мы все вместе проводили его наверх… О, милый папа, – я очень, очень тебя люблю, и сердце у меня разрывается при мысли, что я могу сделать для тебя так мало. Я легла спать, чувствуя себя очень усталой, какой-то омертвевшей внутри».
29 июля. Воскресенье
В Чекерсе в воскресенье, 29 июля, пятнадцать человек, включая местного пастора, пришедшего попрощаться со своим прихожанином, сели обедать за огромный круглый стол. Открыли и быстро опустошили 4,5-литровую бутылку шампанского «Rehoboam», но веселья она не добавила. Черчилль произнес:
– Губительно давать волю жалости к себе, будто у правительства был мандат, и что долг каждого поддерживать его.
Перед расставанием расписались в гостевой книге Чекерса. Клементина поблагодарила чету Ли, владельцев усадьбы: «Последний уик-энд в Чекерсе оказался печальным. Но, пока все мы оставляли свои имена в гостевой книге, я думала о том, какую замечательную роль сыграл этот старинный дом в войне. Каких именитых гостей он принимал, свидетелем каких важнейших встреч он становился, какие судьбоносные решения принимались под его крышей».
Черчилль расписался последним. Под подписью он добавил единственное слово: «Finish» («конец»). На следующий день Черчилль с Клементиной пере ехали в лондонский отель «Кларидж».
Воскресное утро Трумэн посвятил протестантской службе в берлинском Колизеуме.
Вернувшись в «маленький Белый дом», он застал терпеливо ожидавшего его советского наркома иностранных дел в сопровождении Голунского. «Молотов пришел сообщить мне, что премьер Сталин простудился, и доктора приказали ему не покидать резиденцию. По этой причине, сказал Молотов, премьер не сможет сегодня присутствовать на конференции. Затем Молотов высказал пожелание обсудить некоторые вопросы, которые возникнут на следующем заседании. Я согласился с его просьбой и послал за госсекретарем Бирнсом, адмиралом Леги и Чипом Боленом, моим переводчиком. Наша встреча продолжалась около часа». Согласились, что успешному завершению конференции мешают три нерешенных вопроса: западная граница Польши, раздел немецкого флота и репарации с Германии.
– Американская делегация готова согласиться со всем тем, чего просят поляки, за исключением территории между Восточной и Западной Нейсе, – сообщил Бирнс.