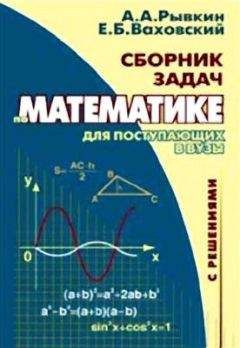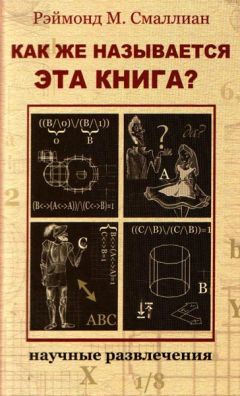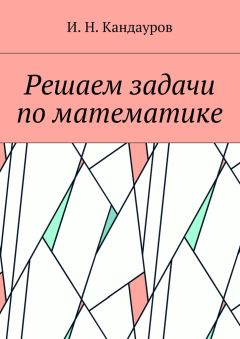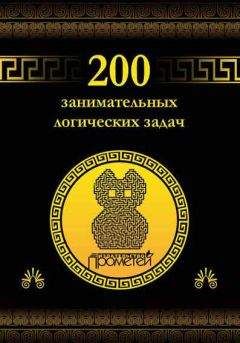Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции
Заблуждения в широких кругах относительно военных возможностей Империи поддерживали министры Наполеона III, заявляя и в Палате и в прессе о совершенной готовности Франции к победоносной войне. На фоне многих заблуждающихся колониальный лейтенант Роша не более чем рядовая фигура. Но его недоумение мог бы разделить показанный в романе свитский генерал Бурген-Дефейль. Играющий важную роль в командовании французской армии, он не меньше, чем Роша, связан рутиной африканской войны.
Роша изумлялся; Морис был «вне себя»; Жан сказал «спокойно и упрямо: „Ну, ничего! Если получаешь оплеуху, это еще не значит, что надо сдаваться… Придется все-таки бить“».
Так приоткрылись в экспозиции характеры персонажей, которым предстоит играть в романе заметную роль. Морис Левассер, молодой интеллигент, только что приписанный к корпорации адвокатов, «пошел на войну добровольцем, совершив крупные ошибки по легкомыслию, слабохарактерности и возбудимости», способный и на благородный подвиг и на жалкое малодушие. Капрал Жан Маккар после испытанных им жестоких несчастий (роман «Земля») оставил крестьянский труд, вернулся на военную службу — спокойный, мужественный, надежный. Впрочем, постоянное внимание автора не будет приковано к этим героям. Анатоль Франс в статье о «Разгроме», написанной тотчас после публикации романа, проницательно заметил: «Именно армия — истинная героиня и, можно сказать, единственный персонаж этой драмы…. индивидуумы не имеют особенного значения: армия живет, страдает, находится в агонии и умирает».
От динамичной экспозиции романа, сложность которой соответствует богатству тем в этой книге, протянулась нить к личной драме.
Из лагеря свободно вышел огромный детина, бродяга, заподозренный в шпионаже. «Наверно, он показал свои документы, рассказал какую-нибудь басню», и его решили просто выгнать. К нему метнулся артиллерист Оноре Фушар. «Да не может быть, — бормотал он. — Как, Голиаф!» Но тот уже скрылся за пирамидой ружей, «уходил, исчезал в темноте». Накануне генерал Бурген-Дефейль, «прожигатель жизни, очень неумный, что, впрочем, ему нисколько не мешало», допрашивал бродягу, а сам за обедом «выболтал перед ним все с невероятной беспечностью», что принесло французской армии большие беды. Но с исторической трагедией связаны и ею обусловлены личные судьбы людей: несбывшиеся надежды погибшего Оноре, драма батрачки Сильвины, прекрасной в горьком своем материнстве, открывшей в себе столько любви к сыну и ненависти к его отцу — пруссаку Голиафу, оставшейся в «вечном трауре» по Оноре.
В экспозицию входит и «день безумной печали», когда отступающие войска, «истомленные, плетущиеся вразброд», уже смешались с бесчисленными толпами беженцев. Изнемогая под тяжестью ноши, «гонимые ветром ужаса», целые семьи бежали по раскаленной солнцем дороге. «Полуодетые матери на ходу кормили грудью плачущих младенцев. Люди испуганно оборачивались, бешено размахивали руками, словно желая закрыть ими горизонт…»; этот сплошной поток, как «неудержимый напор разлившейся реки», преграждая дорогу к Бельфору, останавливал войска.
И сцена, от которой у Мориса осталось жгучее воспоминание, как «от полученной пощечины», а у Жана выступили на глаза слезы: старуха крестьянка провожала отступающие войска яростными проклятиями; по солдатским рядам «пробежал холод», все опустили головы, а старуха, казалось, вдруг выросла. Она предстала, худая, трагическая, в оборванном платье, водя рукою с запада на восток таким широким взмахом, что заполняла все небо. «Трусы! Рейн не здесь! Рейн там! Трусы, трусы!»
Тоскливое тревожное ожидание на бивуаке у крепости Бельфор: «…ни одного известия! Где армия Мак-Магона?.. Что делается под Метцем?» Унизительное чувство: «Здесь, под Бельфором, они еще не видели ни одного пруссака и уже разбиты».
Радость, вызванная приказом о выступлении («все предпочитали что угодно такому прозябанию»); водка вместо полагающегося довольствия; погрузка пьяных, горланящих песни солдат в вагоны для скота; кружный путь через Париж к Реймсу, в лагерь Шалонской армии: «Поезд мчался; в вагоне, окутанном табачным дымом, нельзя было различить друг друга; было невыносимо жарко; от этой кучи тел пахло потом; из черного поезда доносились брань и рев, которые заглушали грохот колес и затихали вдали, в угрюмых полях». Жители окрестных мест — «вся испуганная, трепещущая перед нашествием Франция» — ожидали известий на дорогах. А перед ними «только мелькал паровоз и белый призрак поезда, окутанного паром и грохотом, и прямо в лицо им несся рев всего этого пушечного мяса, увозимого с предельной быстротой».
* * *В самых ранних набросках к «Разгрому» Золя пометил: «К чему я в особенности стремлюсь, это правдиво изобразить поле боя, без всякого шовинизма, и сделать понятными истинные страдания солдата», В ходе работы над романом он писал Ван Сантен Кольфу о достоверных «человеческих документах», побывавших у него в руках: это — пять-шесть записных книжек, принадлежащих добровольцам французской армии, хранящих впечатления, память о днях войны. «В этих записях меня больше всего интересовала жизнь, пережитое. Все они были похожи друг на друга. Их объединяла совершенная общность впечатлений. И вот самую суть „Разгрома“ я получил из этих книжек»[244].
Тема войны несла в себе существенную опасность именно для Золя. Художник, постоянно отстаивавший свое право запечатлеть средствами искусства самые мрачные стороны действительности, мог в творческом процессе отклониться от реалистических принципов, увлечься собственно натуралистическими изображениями бесчисленных страданий человеческой плоти, сделать нагнетание ужасного — самоцелью. Этого не произошло.
Автор «Разгрома» стремился к суровой подлинности картин войны. Описания здесь жестоки, как сама реальность. Это — один аспект романа; есть и другие, не менее важные.
Батальной живописи Золя присуще ценное достоинство: писатель, не ограничиваясь воссозданием фактов войны во всей их внешней, физической достоверности, проникал глубже поверхности явлений. Реалистическая природа таланта Эмиля Золя заявляла о себе в сценах, где в обстоятельствах крайних, обостряющих инстинкты, на грани жизни и смерти приоткрывался внутренний мир персонажей, показан был человек на войне. Тема войны давала писателю возможность еще раз и с наибольшим основанием обратиться к проблемам сознания, всмотреться в различные состояния человеческой психики, запечатлеть их в статике и в движении. Золя рисует и стихийные, не контролируемые разумом состояния, обнаженные необузданные инстинкты. Среди людей, «достигших предела человеческих бед» в лагере для военнопленных, самым одичавшим и исступленным был Лапуль — воплощение некоей неуправляемой тупой силы, ужасный и одинаковый в своей свирепости и когда зверски добивает издыхающую от голода лошадь, чтобы насытиться, и когда закалывает ножом товарища, чтобы отнять у него хлеб (Шуто и Лубе, которые сами способны на многое, не осмеливались требовать свою долю, видя, «какой он страшный, когда утоляет голод»). Крайний примитивизм характера «скотины Лапуля» обусловил и формы, в которых он раскрылся. В данном случае простое следование натуре выглядело уже как резкий натуралистический нажим.
Несравненно больший интерес представляют в «Разгроме» моменты, когда автор наблюдает и показывает у своих героев работу сознания, даже если это только проблески мысли.
Через два дня после штурма Крестовой горы кавалерист Проспер, бывалый солдат «не трусливее других», не мог мысленно восстановить, что происходило тогда. Эти «два дня он жил словно во сне, среди неистово мелькавших смутных событий», не оставивших после себя «никаких точных воспоминаний» (Проспер, кажется, видел, как упал на свое орудие Оноре и еще твердо запомнил последние минуты своего верного друга — коня Зефира). «Вы думаете, там можно что-нибудь разобрать?.. Обо всем этом сражении я не мог бы рассказать вот столечко!.. Там ведь совсем дуреешь, честное слово!» А там было вот что: кавалерию подняли на заре и беспрерывно перемещали на плоскогорье Илли с одного края на другой. Проспер «сильно страдал от тяжелых ночей, от давней усталости, от непобедимой дремоты в седле под мерный скок лошади». Его одолевали видения: наяву чудилось, что он спит — то на камнях, то в хорошей постели… Иногда он действительно на несколько секунд «засыпал в седле, был только движущимся неодушевленным предметом, несущимся по воле коня». Так было и с его товарищами.
Сквозь это оцепенение пробилась мысль: «Да что они с нами делают, что с нами делают?» Она закрепилась в чувстве «раздражения» от этой «военной прогулки по полям сражений, бесполезной и опасной»; кавалеристы видели вдали передвижения пехоты, «но не имели никакого понятия о битве, о ее значении, исходе: генералы обрекли их на полное бездействие». Несколько позднее пришла относительная ясность: «…в час дня Проспер понял, что решено вести их на смерть и дать им возможность достойно умереть». Осталось выполнить солдатский долг, к этому Проспер был готов.