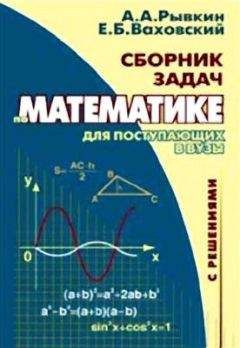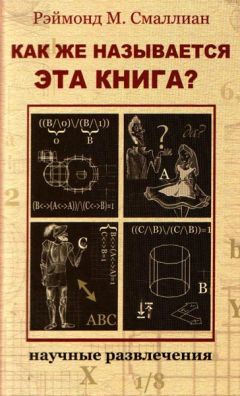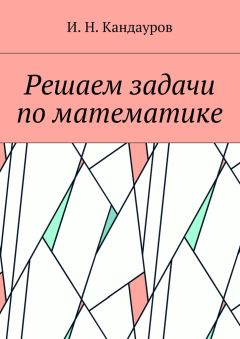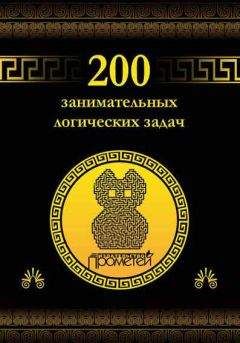Елизавета Кучборская - Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции
На поле под обстрелом работали санитары. Они ползли на коленях, приникая к земле, стараясь пользоваться всеми ее неровностями. «И как только находили упавших, сейчас же начиналась тяжелая работа…» Санитары выпрямляли руки и ноги тем, кто еще дышал, приподнимали им голову, очищали рот от земли, обмывали, как могли. Под огнем подолгу стояли на коленях, стараясь привести раненого в чувство, потом взваливали на себя и несли. «А эта переноска сама по себе являлась трудным делом». Одних несли на руках, «как малых детей», других — на спине, «обвив их руками свою шею». Осыпаемые снарядами, санитары «шли поодиночке или по нескольку человек со своей ношей, опустив голову, нащупывая ногою землю, продвигаясь осторожно и вместе с тем героически смело». Казалось иногда, что «трудолюбивый муравей несет слишком большое зерно». Кто-то из санитаров споткнулся и вместе с тяжелой ношей исчез в дыму разорвавшегося снаряда. Когда дым рассеялся, снова стало видно муравья с ношей. Но это был уже другой санитар: он осмотрел погибшего товарища, взвалил раненого сержанта себе на спину и унес.
Работали в госпитале. Доктор Бурош тяжело дышал от усталости. Раненых несли и несли. Сквозь дыры в шинелях видны были раны, наспех перевязанные, или «зияющие во всем своем ужасе»: из них «красной струей истекала жизнь». Безжизненно висели руки и ноги, одеревеневшие от боли, свинцово-тяжелые; сломанные, почти оторванные пальцы чуть держались на лоскутках кожи… «Больше всего пострадали головы: разбитые челюсти, кровавая каша из зубов и языка, вышибленные из орбит, почти вылезшие глаза, вскрытые черепа, в которых виднелся мозг…» На свалке за ракитником уже лежало в ряд с десяток трупов: одни как будто все еще плакали, у других ноги, казалось, удлинились от боли… Санитар выплескивал и выплескивал ведра кровавой воды на клумбу с маргаритками. Раненые звали Буроша со всех сторон: «Ко мне! Господин доктор, ко мне!»
Доктор «работал, никого не слушая», громко говорил сам с собой, пересчитывал пальцем раненых, нумеровал, распределял: «Сначала этого, потом того, потом вот этого… Челюсть, рука, бедро…» Его помощник старался все запомнить. Потом врач лежал на охапке соломы, опустив руки по самые плечи., в ледяную воду. «Изнемогая душою и телом», Бурош отдыхал здесь, «измученный, сраженный печалью, безысходной скорбью». Встал, выпрямился «в силу привычки и требовательной дисциплины». «Номер второй сейчас кончился. Кто это номер второй? Рука. А-а!.. Так принесите номер третий— челюсть!» Бурош продолжал работать: «исследовал. раны зондом, резал, пилил, зашивал». Но с его лица так и не сходило «выражение страшной усталости и грусти».
Создавая реалистические картины войны, автор «Разгрома» не ограничился сдержанно строгими, точными, конкретными описаниями, хотя эта деловитая сухость в соединении с темой войны способна производить глубочайшее впечатление. Он обратился и к другим художественным средствам.
Всю силу своего воображения призвал Золя, чтобы передать ужас ада, в который ввергнуты живые люди на войне. В Гаренском лесу «с первых же шагов все почувствовали, что попали в ад, но выйти уже не могли». Со всех потерянных позиций к Седану неудержимо катился поток людей, коней, пушек. Пруссаки засыпали пулями, забрасывали снарядами единственный путь к отступлению — лес.
Французский лес словно разделил долю людей: живой, он тоже умирал. Его гибель была трагедийно величественна. «Снарядами рассекало деревья; под пулями облетали дождем листья; из расколотых стволов как будто исторгались жалобные стоны; при падении сучьев, влажных от сока, словно слышались рыдания…» Деревья погибали «на своем посту, как… неподвижные солдаты- великаны». Лес покидала жизнь, и чудилось, что «вопила закованная толпа, точно ужас и отчаяние охватили тысячи пригвожденных к земле существ, которые не могли сдвинуться с места под этой картечью», не могли бежать… «Нигде еще не веяло такой смертной мукой, как в этом обстреливаемом лесу», где пули сталкивались. И солнце медлило садиться, не двигалось. Казалось, оно остановилось над лесом, не оставляя надежды, что кончатся когда-нибудь терзания всего живого.
Никогда еще антропоморфные образы в произведениях Золя не выполняли такой активной художественной роли, вплетаясь в повествование о человеческих бедствиях, и не служили столь непосредственно гуманистической теме романа.
* * *Первая глава третьей части «Разгрома» с ее высокой поэзией и глубочайшим драматизмом — это еще один аспект в изображении войны. Женщина прошла по следам войны, увидела ее лик, соприкоснулась со всеми ее бедами…
Весь долгий день битвы Сильвина не отрываясь смотрела с холма Ремильи на окутанный дымом Седан. Услышав о гибели Оноре, сказала с выражением «непреклонной решимости» на лице: «Ладно! Я поверю только тогда, когда увижу сама, собственными глазами». Попросила Проспера, два дня как пришедшего из разваливающейся армии, показать ей места боев. Выпросила у скупого Фушара ослика, запряженного в тележку, и пустилась в путь. Под Седаном уже перестали грохотать пушки. Панорама, которая развертывалась перед Сильвиной и Проспером, всюду являла «немую скорбь».
В занятом пруссаками Базейле господствовала чуждая французам, непонятная, тупая и жестокая воля. Базейль «с его веселыми домиками и садами» был «повержен, уничтожен». Уцелевшие дома, иссеченные картечью, высились, подобно «обглоданным скелетам». Исчезли целые улицы, на месте их остались разбитые кирпичи, пепел, сажа… У догоравших жилищ баварцы поставили стражу: «Солдаты с заряженными ружьями, с примкнутыми штыками, казалось, охраняли пожары, чтобы пламя совершило свою работу. Угрожающим взмахом руки, гортанным окликом они отгоняли зевак». Жители молча смотрели на это уничтожение, «дрожа от сдержанной ярости». Молодая женщина пыталась раскопать горящие угли — искала погибшего ребенка, часовой ее не подпускал. У обломков другого дома рыдал мужчина с двумя маленькими девочками. Патруль разгонял толпу. Остались только часовые. Механически исполнительно они следили «за соблюдением своего злодейского приказа».
На окраине Седана перед путниками открылось удивительное зрелище: у подъезда усадьбы, под открытым небом, в голубых атласных креслах расположились французские солдаты. Веселая компания кутила — два зуава как будто смеялись, маленький пехотинец согнулся от хохота, стрелок протягивал руку за стаканом. Но Сильвина в ужасе отшатнулась. Солдаты были мертвы. «Дотащились ли они сюда, когда были еще живы, чтобы умереть всем вместе? Или, верней, это пруссаки шутки ради подобрали их и усадили в кружок, издеваясь над старинным французским балагурством».
Смерть принимала подобие жизни. Труп артиллериста плыл по течению реки, «словно купаясь». Зацепился за траву, покружился на месте и поплыл дальше. В лесу, где множество людей погибло, как будто продолжалась мучительная, ужасная, непереносимая жизнь. Убитый капитан, приподняв голову, казалось, кричал от боли. Лейтенант вцепился руками в землю, «словно вырывая пучки травы». Некоторые спокойно спали в зарослях. Сержант улыбался, полуоткрыв губы. Но другие застыли в неестественных, судорожных позах; из широко раскрытых ртов все еще вырывались неслышные вопли. Бригадир и после смерти закрывал глаза руками от ужаса, «чтобы ничего не видеть…».
На равнине Илли продолжали сражаться. Семь солдат, убитых во время стрельбы, «стояли, припав на одно колено, приложив ружья к плечу», и целились, целились… Убитый унтер-офицер, казалось, еще командовал. Поодаль в ров свалилась под картечью целая рота — «лавина упавших, сплетенных, изувеченных людей, которые судорожно цеплялись за желтую землю руками и не могли удержаться».
Рядом с этим разрушением сохранился нетронутым уголок в маленькой лощине. Он был неправдоподобен в своей тишине, свежести, трепетной прелести. Ни одно дерево не задето, «ни одна рана не омочила кровью мох. Затянутый ряской протекал ручей…. в тени высоких буков тянулась тропинка». Проспер и Сильвина взглянули с облегчением на эту уцелевшую жизнь. Но поле, расцветшее чудовищными цветами, вернуло их к ужасу смерти. Истерзанная земля, развороченная снарядами, вытоптанная, «окаменелая под пятою пронесшихся толп», казалось, была обречена на вечное бесплодие. Но алые маки — солдатские кепи — усеяли свекловичное поле. А обломки оружия, сабли, штыки, шаспо будто «выросли из земли», словно «обильная жатва».
Сильвина «озиралась с возрастающей тоской. „Где же это?“». Ослик зашагал дальше.
Всюду, где проходили путники, успела побывать смерть. Но на равнине стихийная, раскованная, перед ними пронеслась жизнь. Земля содрогнулась от бешеного топота. Сотни вольных коней, оставшихся на поле битвы, ничьих, голодных, чутьем объединившихся в табуны, мчались, как смерч, с адской быстротой. Сильвина едва успела поставить ослика под прикрытие стены. «Раздался как бы раскат грома» — кони перескочили преграду, исчезли…