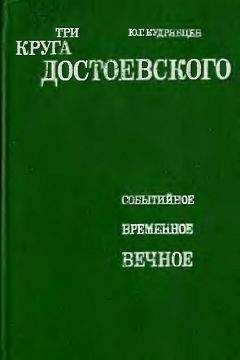Ян Пробштейн - Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии
В отличие от многих, Ольга Седакова не занимается ни перечислением своих побед, ни странствий, но стремится «дойти до сути», порой отказываясь даже от прежних своих находок. Нынешняя ее поэзия смиренна и аскетична. Предваряя давнее уже выступление Ольги Седаковой в ОГИ 17 мая 2002 г., Ксения Голубович говорила о недоверии к высоким словам и абстрактным понятиям, о преодолении романтизма и символизма в современной русской поэзии подобно тому, как акмеисты в своё время преодолели символизм, вернув словам изначальный смысл. С точки зрения Голубович, нынешней поэзии необходимо отобразить сознание «современного никчемного человека», «нашу никчемность» якобы для того, чтобы опять привлечь внимание читателя.
Очевидно, не лишне опять-таки воспользоваться советом Паскаля определять значения слов, чтобы избавить мир, если не от всех, то хотя бы от некоторых заблуждений. «Никчемный человек» — это человек, неспособный ни к какому действию, неспособный ни любить, ни ненавидеть. В этом смысле вполне никчемны, скажем, «Полые люди» Элиота, которым противопоставлены люди активной, но злой воли, как организатор порохового заговора в Лондоне Гай Фокс или Курц из романа Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Однако весьма существенно то, что в «Полых людях» Элиот, усвоивший идеи Паунда, скрывается под маской, не отождествляя себя с «полыми людьми». Идея безличной или, вернее, внеличностной поэзии (impersonal poetry), выдвинутая Элиотом, основана на принципах драматической поэзии, в которой автор растворён в персонажах и не отождествляется с лирическим героем стихотворного произведения. Тем не менее, личность автора, подчеркнём, является, как и прежде, основополагающей для современного искусства, независимо от того, какими бы терминами его ни определяли («модернизм», «постмодернизм» или даже «пост-постмодернизм»). Без личности нет искусства — эта мысль важна и для понимания поэзии О. Седаковой.
Ни няню Варю из стихотворения «Дождь», ни тем более Хильдегарду никчемными людьми не назовешь. Маленький человек, как например, няня Варя, отнюдь не никчемен:
— Дождь идёт,
а говорят, что Бога нет! —
говорила старуха из наших мест,
няня Варя.
Те, кто говорили, что Бога нет,
ставят теперь свечи,
заказывают молебны,
остерегаются иноверных.
Няня Варя лежит на кладбище,
а дождь идёт,
великий, обильный, неоглядный,
идёт, идёт,
ни к кому не стучится.
Дождь
Бывшие гонители веры с истовостью (и неистовостью) нуворишей, которые обрели новую религию (не веру) взамен старой, «ставят теперь свечи,/ заказывают молебны, остерегаются иноверных». В этих стихах ирония и даже сарказм гораздо тоньше, чем в «Восьмистишиях» из «Дикого шиповника», но от этого обличение лжи и лицемерия не менее действенно. Справедливости ради следует отметить, что среди произведений Седаковой последних лет есть и стихотворение «Ничто» (употребляет она и слово «никчемность»):
Немощная,
совершенно немощная,
как ничто,
которого не касались творящие руки,
руки надежды,
на чей магнит
поднимается росток из черной пашни,
поднимается четверодневный Лазарь,
перевязанный по рукам и ногам
в своём сударе загробном,
в сударе мертвее смерти:
ничто,
совершенное ничто,
душа моя! молчи,
пока тебя это не коснулось.
Ничто
Седакова подбирает наиболее точные и простые слова, чтобы выразить весьма непростую мысль. «Это» — мужественный взгляд в Ничто, в небытие, в бездну, сродни Тютчеву: «И бездна нам обнажена/ С своими страхами и мглами…».
Однако само наличие этого «Ничто», вопрос о котором ставил также и Хайдеггер, заставляет искать выход из очерченного круга метафизических вопросов, из сущего к бытию. В отличие от Хайдеггера, однако, Седакова — верующий человек, и вопрос о Ничто для неё представляет не отвлечённый, умозрительный, чисто философский интерес, но существенный, жизненно важный. В свете этого следует рассматривать и «никчемность»:
Нет, не всё пропадает,
не всё исчезает.
Эта никчемность,
эта никому-не-нужность,
это,
чего не узнают родная мать и невеста,
это не исчезает.
Как хорошо наконец.
Как хорошо, что всё,
чего так хотят, так просят,
за что отдают
самое дорогое —
что всё это, оказывается, совсем не нужно.
Не узнали — да и кто узнает?
Что осталось-то?
Язвы да кости.
Кости сухие, как в долине Иосафата.
«Блаженны нищие духом», как блажен Божий человек Алексей, к образу которого Седакова неоднократно возвращается на протяжение многих лет. «Никчемность» Седаковой — это смирение, осознание бренности нашей, но и надежда, что если Богу будет угодно, кости срастутся и оживут.
Думается, что О. Седакова вкладывает иной смысл в слово «никчемность», нежели К. Голубович. Что же до преодоления романтизма, символизма или наследия формалистов и футуристов, то сегодня это не столь актуально, как преодоление эпигонства в новейших формах, будь то верлибр или концептуализм, преодоление не безличности в элиотовском понимании, но безликости. Формалистам и ОПОЯЗу мы должны быть благодарны хотя бы за то, что они первыми поставили вопрос о содержательности формы и доказали, что изменение формы, которое призвано вернуть внимание читателя, «оцарапать» его взгляд, ведет к изменению содержания. Именно поэтому Седакова так много внимания придает форме, ломая стереотипы, в том числе и ритмические, обманывая ожидания читателя, пробуждая.
Если Бродский говорил о «величии замысла», то в поэзии Седаковой следует прежде всего отметить величие духовного усилия. Поэт, ведающий о ничто и стремящийся передать свой духовный опыт, ищет слова и формы, проверяет их на истинность и надёжность, на способность донести надежду.
IV. Приложения
Приближение к истине
Проблемы воплощения поэтического мотива в художественном произведении
В статье «На пути к воплощению новой идеи» композитор Альфред Шнитке говорит о недовоплощенности подсознательного замысла произведения, уже вышедшего из-под пера, то есть записанного «нотами на бумаге». Несколько неточно, на мой взгляд, сравнивает Шнитке процесс реализации идеи с переводом на иностранный язык (почему, собственно, на иностранный?) и цитирует в связи с этим Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь». Таким образом А. Г. Шнитке доказывает, что воплотить музыку, услышанную композитором, записать ее в том виде, в котором она была услышана, — вещь невозможная, и только сопротивление материала, преодоление невозможного, то есть воплощение художественного мотива в конкретном контексте движет искусство вперед.
Павел Флоренский писал в книге «Иконостас» о том, что есть два вида сна, сравнивая его с творчеством: первый — когда душа восходит из мира дольнего в мир горний и еще хранит связь с этим миром, передавая, так сказать, некую приземленность, и другой — когда душа нисходит из мира горнего в мира дольний, неся отблески Божественного трансцедентального света. По Флоренскому — это высший вид искусства. Флоренский сравнивает искусство иконописи с переводом с Божественного языка на земной[357]. Любой вид творчества может быть либо Божественным вдохновеньем либо заземленным, даже механическим, не важно, как он воплощен — в красках, линиях, нотах или в словах. При этом мы преодолеваем сопротивление материала (здесь уже помимо всего прочего требуется мастерство). Как писал Михаил Бахтин: «Имманентное преодоление есть формальное определение отношения к материалу не только в поэзии, но и во всех искусствах, причем имманентное преодоление языка в поэзии резко отличается от чисто отрицательного преодоления его в области познания: алгебраизации, употребления условных значков вместо слова и т. п.»[358].
Разрешить подобные противоречия стремится каждый художник. Не случайно поэтому мысли, родственные композитору Шнитке, высказывает поэт Владимир Микушевич в статье «Поэтический мотив и контекст», о которой говорилось в связи с разбором двух «Ангелов», когда развивая идею поэтического мотива, Микушевич говорит о том, что «Личность и материал — две ипостаси поэтического мотива». Таким образом, понятие поэтического мотива и личности необходимо ввести в разбор поэтического произведения.