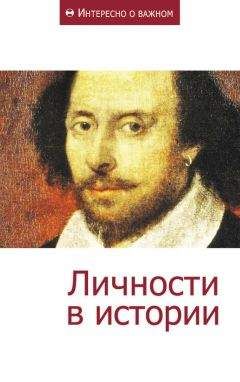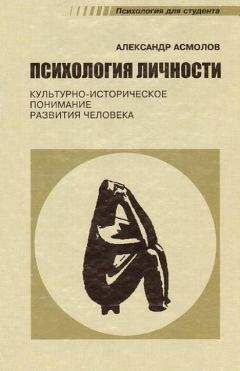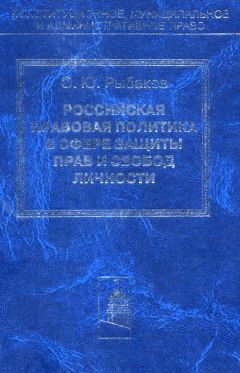Владимир Кантор - В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: опыт русской классики
Что же он сказал? А то, что «внутренняя история России — не безобразная груда бессмысленных, ничем не связанных фактов. Она, напротив, — стройное, органическое, разумное развитие нашей жизни, всегда единой, как всякая жизнь, всегда самостоятельной, даже во время и после реформ. Исчерпавши все свои исключительно национальные элементы, мы вышли в жизнь общечеловеческую, оставаясь тем же, чем были и прежде — русскими славянами»{189}. Однако, например, крупный русский историк рубежа XIX — XX веков Н. Павлов-Сильванский с упрёком писал: «Кавелин признавал, что в основе органического развития, русского и германского, лежат различные противоположные начала. Германские племена «рано развили начало личности» и дальнейшее развитие этого начала было основою их истории, У русско-славянских племён «начало личности не существовало»; у них в основе развития было начало родственных связей, род и семья… Такое признание резкой противоположности между историей русской и западной, признание совершенно различных начал развития той и другой, делало очень шаткой позицию Кавелина в его политической борьбе с Погодиным и славянофилами на этой, исторической почве»{190}.
Вопрос этот стоит прояснить. Кавелин искал через свою «формулу» исторического развития России путь не к «самодостаточной» (в отличие от славянофилов), а к «общечеловеческой жизни». Как ему казалось, он нашёл и ценностную точку отсчёта, способную дать единство мировому прогрессу, на которую этот прогресс может опереться, — личность. На Западе, писал он, «человек давно живёт и много жил, хотя и под односторонними историческими формами; у нас он вовсе не жил, и только начал жить с XVIII века. Итак, вся разница только в предыдущих исторических данных, но цель, задача, стремления, дальнейший путь, один»{191}.
Нельзя, однако, забывать, что и Европа прошла период дикости, даже людоедства (там ещё в IX веке, по словам Гегеля, «на рынках открыто продавалось человеческое мясо»{192}, пережила самые архаичные формы быта, но под влиянием христианства, обогащённого возвращением к античности, на почве которой укрепились германские племена, процесс гуманизации шёл достаточно успешно, не прерываемый нашествиями извне, дойдя до Возрождения. И всё это в отличие от Руси, испытавшей страшные разрушения татаро-монгольского завоевания, вполне напоминающие катастрофические последствия эпохи переселения народов. «Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией… »{193} В результате татаро-монгольского ига в России устанавливается «монгольское государственное право», по которому «вся вообще земля, находившаяся в пределах владычества хана, была его собственностью»{194}. Не только о праве на собственность, но о праве на собственную жизнь не могло идти речи. Жизнь человеческая перестала цениться. Московские самодержцы, как замечал Герцен, переняли монгольские принципы управления. После разгрома Новгорода (до которого не докатилось татарское нашествие) последовательно Иваном III, а затем Иваном IV — о правах личности было прочно забыто. И всё же, когда произошло некоторое успокоение исторической жизни, её, так сказать, «нормализация» (воспользуюсь термином Д. Фурмана), постепенное возвращение России в Европу, возникает и внутренняя потребность культуры в появлении личности как естественного инициатора внутреннего развития. Кавелинские поиски предпосылок, позволявших надеяться, что личность не привозной плод, не заморское растение, которое погибнет, не приживётся на российской почве, были обусловлены требованием времени, наиболее чутко выразившимся в литературе. Уже состоялся Пушкин, который не только, как замечал Белинский, сумел «завоевать, усвоить навсегда русской земле поэзию как искусство», но и усвоил России всю европейскую культуру в основных её проявлениях. Отсюда, кстати, его «протеичность», или, как писал Достоевский, его «всечеловечность». Пушкин своим творчеством показал возможность в России незамкнутой, развивающейся, открытой и отзывчивой личности. Необходимо было историческое обоснование этого феномена.
Строго говоря, Кавелин принял чаадаевский ход мысли, что история движется там, где есть развитая личность, что только при этом условии страна входит в круг цивилизованных наций, способных к прогрессу образования, просвещения, промышленности. «… Для народов, — писал он, — призванных ко всемирно-историческому действованию в новом мире, такое существование без начала личности невозможно… Личность, сознающая сама по себе своё бесконечное, безусловное достоинство, — есть, необходимое условие всякого духовного развития народа»{195}. Прежде всего заслуга Кавелина перед русской общественно-литературной мыслью, его успех объясняются тем, что он дал оптимистическую (в этом смысле — античаадаевскую, не отвергавшую, а преодолевавшую Чаадаева) версию русской истории. По Кавелину, распадение родового быта, укрепление быта семейного, последующий его кризис привели к возникновению могучего государства в России. А «появление государства было вместе и освобождением от исключительно кровного быта, началом самостоятельного действования личности»{196}. Петра I он считал первой свободной личностью в России: через три года, в 1850 году, сославшись на Кавелина, Герцен назвал Петра «первой русской личностью, дерзнувшей поставить себя в независимое положение»{197}.
Надо заметить, что в такой точке зрения на Петра I прослеживается явная полемика с А. Хомяковым, в своей статье 1839 года «О старом и новом» писавшем о Петре: «… грустно подумать, что тот, кто так живо и сильно понял смысл государства, кто поработил вполне ему свою личность, так же как и личность всех подданных, не вспомнил в то же время, что там только сила, где любовь, а любовь только там, где личная свобода»{198}. Позиция сильная и выражена мощно, но не надо забывать, как славянофилы понимали эту личную свободу. Отвечая на кавелинскую статью в «Современнике», Ю. Самарин в «Москвитянине» за 1847 год сформулировал это понимание: «Общинный быт славян основан не на отсутствии личности, а на свободном и сознательном её отречении от своего полновластия»{199}. В защиту Кавелина выступил Герцен, но уже из-за рубежа, ибо мог там свободно договорить то, что нельзя было сказать в русской подцензурной печати.
«В возражении «Москвитянина», — писал Герцен в трактате «О развитии революционных идей в России», — почерпнувшем свои доводы в славянских летописях, греческом катехизисе и гегельянском формализме, опасность, которую представляет собой славянофильство, становится очевидной. Автор-славянофил полагал, что личный принцип был хорошо развит в древней Руси, но личность, просвещённая греческой церковью, обладала высоким даром смирения и добровольно передавала свою свободу особе князя… Этот дар самоотречения и ещё более великий дар — не злоупотреблять им — создавали, по мнению автора, гармоническое согласие между князем, общиной и отдельной личностью, — дивное согласие… на замечание, что все мы рабы, что личное право не развито в России, отвечают: «Мы спасли это право, увенчав им князя». Это издёвка, возбуждающая презрение к человеческому слову»{200}.
Позицию Кавелина Герцен формулировал следующим образом: в России «неопределённое положение личности вело, согласно автору, к такой же неясности в других областях политической жизни. Государство пользовалось этим отсутствием определении личного права, чтобы нарушать вольности; таким образом, русская история была историей развития самодержавия и власти, как история Запада является историей развития свободы и прав»{201}. Как видим, Герцен не только много революционнее прочёл идеи Кавелина, но и во многом переосмыслил их, переиначил. В дальнейшем эта разность взглядов на принципы развития русской истории оказалась причиной серьёзного расхождения, приведшего к духовному и политическому разрыву мыслителей.
Кавелин связывал развитие личности с самодержавным государством, от него ожидая свобод, словно не замечая в России личностей, противостоявших государству (хотя бы «огненный протопоп» Аввакум или Радищев). Герцен же твёрдо заявил, что после Екатерины II «власть и мысль, императорские указы и гуманное слово, самодержавие и цивилизация не могли больше идти рядом»{202}. Строго говоря, Пётр Первый тоже был наследником московского самодержавия, не случайно он называл своим прямым предшественником Ивана Грозного. Здесь Герцен поддался кавелинско-соловьёвской идеализации Петра и его деятельности, называя его революционером на троне, каковым он вряд ли был, занятый, по трезвому соображению Чернышевского, прежде всего укреплением империи. Отметим, что наиболее суровый приговор исторической концепции, связывавшей развитие свободы личности в России с самодержавием, был произнесён русскими мыслителями XX века, пережившими опыт революции и сталинизма. «Русская интеллигенция, — писал Г. Федотов, — предпочла усвоить московскую историческую традицию митрополита Макария и Степенной Книги, пропущенную сквозь Гегеля. С необычайной лёгкостью, без ощущения всего трагизма русской истории, она вслед за Соловьёвым и Ключевским (которые шли здесь за Кавелиным. — В. К.) — приняла, как нечто нормальное (вроде европейского абсолютизма), московско-татарское поглощение Руси, с непонятным оптимизмом ожидая всходов западной свободы на этой почве»{203}.