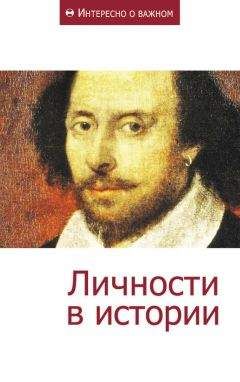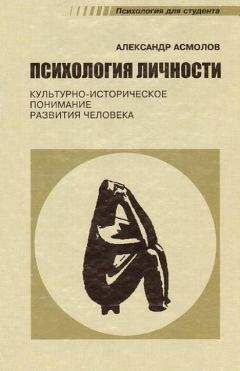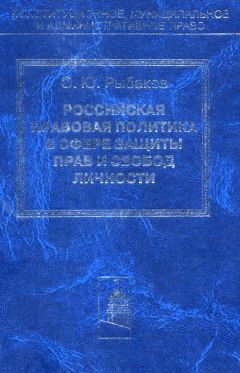Владимир Кантор - В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: опыт русской классики
Но великие творения его остались. Они стали фактом, который из русской культуры убрать уже было невозможно. Более того, они и вправду стали фундаментом, опорой для последующего развития русской литературы. То, что так трудно было преодолеть Гоголю (зависимость от государственного сознания), на чём он сломался, уже сравнительно проще преодолевали его последователи: их поддерживало (пусть не всегда адекватно понятое, но всё же понятое как независимое и самостоятельное самовыражение художника) искусство Гоголя, их предупреждал его трагический опыт. «Гоголь, — писал Чернышевский, — важен не только как гениальный писатель, но вместе с тем и как глава школы — единственной школы, которою может гордиться русская литература»{172}.
Конечно, гоголевское творчество, гоголевский анализ действительности был глубже, метафизичнее, нежели узко социальная критика «натуральной школы» сороковых годов. Но, как мы уже отмечали, натуральная школа была лишь этапом, а в дальнейшем вышедшие из неё писатели ставили проблемы, по глубине и значимости философских обобщений не уступавшие гоголевским. Во всяком случае было ясно, что вернуться к дидактике и риторике XVIII века в веке XIX русской литературе уже не грозит. «Так называемую натуральную школу, — совершенно справедливо утверждал Белинский, — нельзя упрекнуть в риторике, разумея под этим словом вольное или невольное искажение действительности, фальшивое идеализирование жизни. Мы отнюдь не хотим этим сказать, чтобы все новые писатели, которых (в похвалу им или в осуждение) причисляют к натуральной школе, были все гении или необыкновенные таланты; мы далеки от подобного детского обольщения. За исключением Гоголя, который создал в России новое искусство, новую литературу и которого гениальность давно уже признана не нами одними и даже не в одной России только, — мы видим в натуральной школе довольно талантов, от весьма замечательных до весьма обыкновенных. Но не в талантах, не в их числе видим мы собственно прогресс литературы, а в их направлении, их манере писать. Таланты были всегда, но прежде они украшали природу, идеализировали действительность, то есть изображали несуществующее, рассказывали о небывалом, а теперь они воспроизводят жизнь и действительность в их истине»{173}.
Что же важного и интересного извлечёт для себя читатель из анализа гоголевской трагедии, его надлома? Ну хотя бы то, что классическая русская литература прошлого века появилась не с лёгкостью и необязательностью случайности, что её становление было сопряжено с колоссальным напряжением духовных сил её создателей, преодолевавших не только окружающую действительность, но и самих себя, что то, что кажется с детства таким привычным и естественным, как бы само собой разумеющимся (все эти привычные названия великих произведений, которые, как нам теперь кажется, просто не могли не быть всегда), было на самом деле результатом высокого подвига. И хотя мы знаем, что возникли уже объективные условия для появления литературы, но всегда необходим кто-то, кто берёт на себя смелость претворить эти условия в реальность. О том, как это было нелегко даже для людей великого гения, и говорит трагедия Гоголя.
VI. «ЛИЧНОСТЬ… — ЕСТЬ НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ВСЯКОГО ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ НАРОДА»
(Судьба идей К. Д. Кавелина[5] в контексте общественно-литературных споров в России XIX века)
Трудно назвать большого русского писателя, который бессознательно или вполне сознательно и плодотворно (как Карамзин, Пушкин, сегодня — Солженицын) не занимался бы историческими изысканиями или по крайней мере не был бы склонен к своего рода «рефлексии по поводу отечественной истории». Причём не в поисках материала для историко-приключенческих романов (хотя такие были и есть: от М. Загоскина до В. Пикуля), а пытаясь как бы усовершенствовать свой художнический взгляд, чтобы понять окружающую действительность, её смысл и специфику, понять, «почему мы такие». Писательские занятия историей объясняются не только склонностью всякого крупного писателя нового времени к историзму, но и неразвитостью, недифференцированностью духовного производства, скованностью русской мысли на определённых этапах её развития, её поздним, по сравнению с Европой, раскрепощением, отсутствием научных исторических исследований.
К 40-м годам прошлого века история приобрела впервые статус самостоятельной дисциплины, а русские историки по влиянию своему на публику, по интересу, вызываемому их концепциями, могли соперничать с писателями и критиками. Наш сегодняшний интерес к XIX веку так усилился не в результате новаторских литературоведческих трактовок; «эпоха гласности» открыла вдруг широкому кругу читателей, что развитие великой литературы было немыслимо без великих философов и историков, без полноценной духовной жизни, то есть того напряжённого интеллектуального поля, которое определяло проблемы и направление русской культуры. Разные концепции исторического развития России, оказывая влияние на общественно-литературную борьбу, безусловно лежали в основе и многих собственно литературно-критических анализов произведений искусства.
В знаменитом своём цикле статей о Пушкине Белинский, рассуждая о драматических особенностях «Бориса Годунова», объясняет эти особенности спецификой исторического развития России. «Прежде всего скажем, что «Борис Годунов» Пушкина — совсем не драма, а разве эпическая поэма в разговорной форме, — писал критик — Действующие лица, вообще слабо очёркнутые, только говорят и местами говорят превосходно; но они не живут, не действуют. Слышите слова, часто исполненные высокой поэзии, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни действий. Это один из первых и главных недостатков драмы Пушкина; но этот недостаток не вина поэта: его причина — в русской истории, из которой поэт заимствовал содержание своей драмы. Русская история до Петра Великого тем и отличается от истории западноевропейских государств, что в ней преобладает чисто эпический или, скорее, квиетический[6] характер, тогда как в тех преобладает характер чисто драматический. До Петра Великого в России развивалось начало семейственное и родовое; но не было и признаков развития личного: а может ли существовать драма без сильного развития индивидуальностей и личностей? Что составляет содержание шекспировских драматических хроник? Борьба личностей… »{174}
Не будем сегодня удивляться глубине историософских штудий Белинского и делать вид, что он обладал обширными познаниями во всех областях духовной деятельности, самостоятельно их разрабатывая. Вся его сила как критика, по соображению С. Венгерова, заключалась как раз в том, что он умел усвоить идеи своих друзей, ассимилировать их и в высказывании придать им большую силу, послужить своеобразным рупором. Разумеется, лишь те идеи имели на него влияние, которые отвечали его умонастроениям, его собственным духовным поискам. В данном случае не надо больших разысканий, чтоб определить автора высказанной Белинским историософокий концепции; об этом уже говорилось, в том числе и в нашей науке. Как справедливо констатировал Э. Бурджалов ещё в 1956 году « Белинский опирался на труды профессионалов, он опирался на Кавелина»{175}. Эта констатация подтверждается и письмом Белинского Герцену, в котором он обнаруживает прекрасное знание кавелинской историософской концепции «Его лекции (Кавелина — В. К.), которых начало он прислал мне (за что я благодарен ему донельзя), — чудо как хороши; основная мысль их о племенном и родовом характере русской истории в противоположность личному характера западной истории — гениальная мысль, и он развивает её превосходно. Ах, если бы он дал мне статью, в которой бы он развил эту мысль, сделав сокращение из своих лекций, я бы не знал, как и благодарить его!»{176}
Но как совмещалась идея об отсутствии личностного характера русской истории с появлением искусства нового типа — хотя бы с творчеством того же самого Пушкина? Значит, в какой-то момент наступил перелом… Когда? Идеи молодого историка находились на самом пересечении наиболее болезненных тем, над которыми размышляли русские писатели. Вот что писал Пушкин: «Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной»{177}. А вот Кавелин: «У нас не было начала личности: древняя русская жизнь его создала; с XVIII века оно стало действовать и развиваться»{178}. XVIII век — это период петровских реформ, укрепления государственного могущества и выход России на сцену европейской истории. Случайно ли это совпадение: укрепление государства и становление личности? Того самого государства, которое чуть не раздавило — каждого по-своему — Чаадаева и Гоголя, которому так отчаянно, сопротивлялся Лермонтов и позитивный смысл деяний которого (помимо негативного) пытался понять Пушкин, говоря, что государство — единственный европеец в России, и связывая появление новой литературы с реформами Петра: «Пётр не успел довершить многое, начатое им. Он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности. Семена были посеяны… Новая словесность, плод новообразованного общества, скоро должна была родиться»{179}.