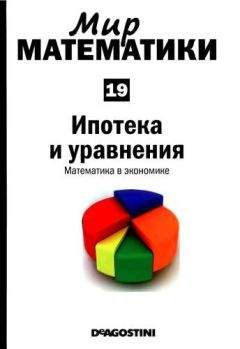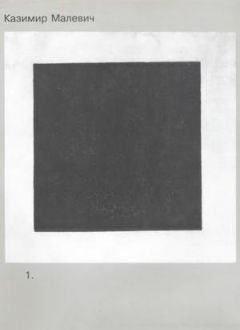Михаил Бахтин - Том 2. «Проблемы творчества Достоевского», 1929. Статьи о Л.Толстом, 1929. Записи курса лекций по истории русской литературы, 1922–1927
<14> «Гете говорит (Письма, под ред. Стрелке, II, 18): "'Состояние' — нелепое слово, потому что ничто не стоит, а все подвижно". Ситуация не есть что-то постоянное: она, напротив, есть вечно изменчивая, в момент речи имеющаяся налицо, с каждым произнесенным предложением изменяющаяся констелляция — нечто такое, что всегда имеет место, но никогда не остается на одном и том же месте. Ситуация — это совокупность всех тех данных через личность и личные судьбы, через внешние обстоятельства и саму речь моментов, которые живы в миг говорения, определяя содержание и форму речи, а также молчания. Чутье на ситуацию — его называют, с несколько морализующим оттенком, "тактом" — может однако в момент речи значительно ослабнуть, хотя и не исчезая совсем, и речь таким образом колеблется то в сторону большего, то в сторону меньшего учета этого основания и одновременно этой равнодействующей речи — ситуации» (Стр. 191).
<15> «Марг. Гамбургер, "Организм языка", с. 81 говорит о "флюидах" между слушателем и говорящим, которые сплавляют друг с другом слушателя и говорящего, и цитирует прекрасное высказывание Клейста: "Не мы что-то знаем, а знает то определенное положение, в котором мы находимся"»[406] (Стр. 191–192).
<16> «То же самое представление можно "извлечь" из моих книг "Письма итальянских военнопленных" и "Описания понятия 'голод' на итальянском"» (Стр. 291)[407].
<17> «Подлинную, лабиринтообразную душевную жизнь говорящего человека до сих пор умели уловить только работающие со словом художники, а не работающие над словом грамматики: пестрая бабочка души ускользала из-под этикеток логической грамматики. Исследователь языка должен сегодня держаться подальше от обездушивающей "грамматикализации" языка: он, как представляется, должен не только всячески подчеркивать жизнь языка, но и видеть в нем в первую очередь животворящую полноту человеческого переживания! Ибо исследование языка должно быть прежде всего прочего исследованием языка души, историей языка. Но человеческая душа — это "большая страна"» (Стр. 293).
К переводу фрагментов из книги Л. ШпитцераВыше опубликованы выписки из книги немецко-американского лингвиста Лео Шпитцера (1887–1960) «Итальянский разговорный язык», обнаруженные в АБ и сделанные рукою Е. А. Бахтиной. Перевод этих фрагментов следует за оригиналом.
В исследованиях М.М.Б., начиная с обеих книг 1929 г. (МФЯ и ПТД), нетрудно обнаружить устойчивый интерес к работам Л. Шпитцера. Ссылки на Л. Шпитцера (МФЯ, 29, 113; ППД, 260; ВЛЭ, 150, 409; ЭСТ, 298), как правило, выступают в систематически-оценочном обрамлении: им сопутствует принципиальная философская позиция, остававшаяся по существу неизменной и систематически ориентированная на критическое восполнение «кругозора философии языка, лингвистики и построенной на их базе стилистики» (ВЛЭ, 88) XIX–XX вв. Публикуемые здесь выписки дают интересный и поучительный материал как для знакомства с книгой Л. Шпитцера, внушительное наследие которого почти вовсе не известно у нас, так и для лучшего понимания диалогически-продуктивного (в бахтинском смысле «амбивалентного») отношения русского мыслителя к наиболее близкому ему направлению западной философски-лингвистической мысли XX в., одним из крупнейших представителей которого был Л. Шпитцер.
Л. Шпитцер, как вспоминал известный американский литературовед Р. Уэллек, «был убежден, что его собственную научную позицию лучше всего определить через отношение ее к позициям других» (см.: WellekR. Discriminations: Further Concepts of Criticism. N.Y., 1971, p. 189); соображение, которое мог бы повторить и М.М.Б., но, правда, существенно изменив его интенциональный смысл. В его устах выразившаяся в приведенном высказывании философско-лингвистическая позиция Л. Шпитцера (и специально понимание «диалога») приобрела бы не риторический и «индивидуалистический», а внутренне-социальный, «диалогический» характер. С этой, более углубленной точки зрения научная позиция Л. Шпитцера предстает как индивидуально дифференцированный продукт более общих тенденций развития гуманитарных наук в первые десятилетия XX в. — прежде всего в Германии.
Ближайшей и подлинной научной почвой, или «другостью», лингвистического мышления Л. Шпитцера, как это неизменно подчеркивал М.М.Б., была «эстетическая лингвистика (школа Фосслера)» (ЭСТ, 298), что не скрывал и сам автор «Итальянского разговорного языка»: «Признавая, вместе с Кроче, язык скорее выражением (Ausdruck), чем коммуникацией (Mitteilung), и сближая его с эстетикой, Фосслер всегда боролся за интерпретацию поэта из его языкового окружения, которое, во всяком случае, не менее существенно для его понимания, чем обычное биографическое окружение» (см.: Шпитцер Л. Словесное искусство и наука о языке. — В кн.: Проблемы литературной формы / Под ред. и с пред. В. М.Жирмунского. Л., «Academia», 1928, с. 193). Что «выражение» само — в искусстве и в жизни — есть только особенный случай «коммуникации», точнее, диалогически ответной реакции, притом конститутивно определяемой не «внутри» сознания, а «извне» его (ср.: «Не переживание организует выражение, а наоборот, выражение организует переживание, впервые дает ему форму и определенность направления» — МФЯ, 101); что, далее, самый принцип «выражения» не тождествен специфике эстетического (как принцип «переживания» не тождествен структуре субъективности и действительно переживаемому опыту); что наконец язык не может быть понят «в себе», за счет сближения его с эстетикой (как, впрочем, и эстетическое не может быть понято «в себе» за счет растворения его в эстетически понятом «сознании»), — таково, в общих чертах, направление бахтинской критики «лингвистического формализма» (МФЯ, 72) в целом с его ориентацией на «изолированное монологическое высказывание» (МФЯ, 134), и, в частности, — «индивидуалистическогосубъективизма» (МФЯ, 59–63, 99-113). Только на фоне осуществленного в современной немецкой философской герменевтике радикального преобразования-самокритики теоретизма и эстетической метафизики Запада (см., в частности, анализ «эстетики гения», «искусства переживания», «абстракции эстетического сознания», «позиции искусства», «исторического сознания», «философии жизни» и других романтико-спекулятивных образований в философии, эстетике и духовной культуре XVIII–XX вв., а равно и методическое отграничение лингвистического подхода применительно к конкретному историческому бытию «языка» и «слова» — в книге Г.-Г. Гадамера «Истина и метод», 1960 г.) можно корректно сориентировать и по достоинству оценить, теоретически и исторически, направление критики М.М.Б. «эстетической лингвистики» К. Фосслера, Л. Шпитцера и др. — всей «немецкой» линии филоссфско-лингвистического мышления Нового времени.
С другой стороны, критика «индивидуалистического субъективизма» в работах М.М.Б. отличается от возобладавшего в СССР, начиная с 20-х гг., «абстрактного объективизма» и «филалогизма» в филологии, лингвистике, литературоведении и духовной культуре вообще — «французской» линии философско-лингвистического мышления, сочетавшей картезианский теоретизм естественнонаучной ориентации со своеобразным метафизическим социологизмом и утопизмом, на русской почве радикализованными. «Насколько школа Фосслера не популярна в России, настолько популярна и влиятельна у нас школа Соссюра» (МФЯ, 71) — наблюдение из 20-х гг., которое, как кажется, в гораздо большей степени, чем разного рода ретроспективные объяснения, проливает свет на тот очевидный факт, что бахтинская «философия языка» и сегодня еще остается почти столь же одинокой в нашей филологии, как бахтинская программа преобразования философского «теоретизма», от Платона до Когена и Гуссерля, — в русской философии.
По контрасту с ситуацией нового «конца века», в России и на Западе, — ситуацией, когда по отношению к бахтинской философской и общегуманитарной программе невозможны ни синтетическое исследование, ни даже настоящий спор (ведь то и другое предполагает общую проблемную почву или горизонт в соединении с методологически осознанной онтологически-событийной и исторически продуктивной дистанцией между нами и Бахтиным — «причастной вненаходимостью», «взаимной вненаходимостью» на языке самого М.М.Б., «временным отстоянием», Zeilenabstand, на языке Г.-Г. Гадамера), — целесообразно, по возможности, отдать себе отчет в том, что в самом «индивидуалистическом субъективизме», так сказать, не совпадает с ним же самим, «лучше и больше» его самого в бахтинском смысле этого словосочетания. В работе М.М.Б. «Слово в романе» (1934–1935) читаем:
«Одновременно и параллельно с этим интересом к явлениям стилизации, пародии и сказа развивался обостренный интерес к проблеме передачи чужой речи, к проблеме синтаксических и стилистических форм этой передачи. Развивался этот интерес, в частности, в немецкой рома-но-германской филологии. Ее представители, сосредоточиваясь в основном на лингвистико-стилистической (или даже узко грамматической) стороне вопроса, тем не менее, — в особенности Лео Шпитцер, — очень близко подошли к проблеме художественного изображения чужой речи, этой центральной проблеме романной прозы» (ВЛЭ, 149–150). Программные и исследовательские интенции бахтинской мысли, таким образом, сходятся на общей почве проблем «чужой речи», ее «художественного изображения», «романной прозы» и т. п. именно с «немецкой романо-германской филологией» — в частности и в особенности с лингвистико-стилистическими анализами Л. Шпитцера. Но для того, чтобы именно в немецкой романистике XX в., этой опорной «другости» всех индивидуальных представителей ее (К. Фосслер, Л. Шпитцер, Э. Ауэрбах, Э.-Р. Курциус, если называть самых известных), «очень близко подошли к проблеме художественного изображения чужой речи», — для этого должны были быть более объективные духовно-исторические и научные предпосылки и традиции, на которые здесь уместно указать в сжатом виде.