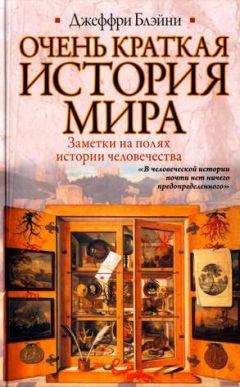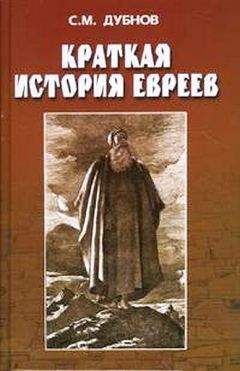Алессандро Надзари - MCM
Я давлю на перо столь сильно и столь долго, что, в конце концов, разрываю бумагу и заставляю его судорожно скрипеть по камню стола, как ключ, в блуждании своём царапающий по проржавевшей — или, вернее, покрывшейся патиной? — двери в слепом, отчаянном поиске заиленного замкá. Писчий инструмент в последний раз стонет и — переламывается, заставляя что-то оборваться и внутри меня.
Я чиню свежее перо и расправляю хрустящий лист. Не знак ли это, что история и впрямь окончена, что пора дать начало новой? (Даже — новейшей; той, что заменит неудавшуюся нашу?) Но как? Продолжить писать? Или же устраниться? А если эта история продолжится вне зависимости от того, продолжи писать и воспевать её я либо же кто-то иной? Вновь не те вопросы.
Я вглядываюсь в зияние раны, что оставил вместо точки на искалеченном листе, и понимаю, что в себе ношу такую же, что свою неполноту затапливаю болью и даю чрез эту рану излиться в мир вязкой чёрной желчью, пригодной к воспламенению, и к её возжжению стремлюсь. Какова же ирония, что пожар тушат пожаром, пламя — пламенем!
И уже дважды. До чего причудливым образом развернулась битва первоэлементов, как на разных её этапах они вплетались в нить повествования!
Я вглядываюсь в зияние зрачка, что раскрыл, изувечив послание для твоих глаз, и ощущаю, как Она, выжидающая, смеётся, находя удовольствие в этих бесплодных играх… к которым мы Её и пристрастили. И Её смех вновь притягивает и одурманивает меня. Как, как же мы избегали подобного Там? Избегали ведь? Избежали ведь? Как бы я желал вместо Её зова слышать твой.
Я закрываю глаза и тем укрываю разум от внешнего мира — и вспоминаю твой голос, твой смех, твой вздох, которым ты награждала мою детскую, наивную, невозможную самоуверенность. Скоро, очень скоро твоей терпеливости воздастся.
Мне ещё остаётся доступным последнее средство, последний ход. В конечном счёте всё свелось к нему, грязному и грубому, но вместе с тем и парадоксально точному… воистину — предтече точки.
Ныне мне известен ключ, что откроет путь к ключу уже искомому. И это не апломб, но полная печали, тоски и покаяния в неизбежном зле, безрадостная надежда, что грядущая отчаянная бойня не останется бессмысленной, не оставит после себя лишь пустоту — разрыв.
Быть может, в этой истории пора поставить точку, дабы не умножать скорбь. Не мы ли обрекли град — тот и этот, — познав то, чему надлежит остаться непознанным и непознаваемым?
Нет, если и заканчивать, то не поэтому.
До сего дня мою решительность подкрепляли только письма к тебе. Ты прочтёшь и это послание. Твой взгляд коснётся последнего слова, последнего знака — и это станет предвестием нашего воссоединения.
Я уже ощущаю дуновение твоего присутствия.
V. Fluctuat nec mergitur
26
Уже через пару дней после открытия первой линии метрополитена город освободился от раскалённых оков, избежал сокрушения давящей толщей и вновь дышал. Лёгкий ветерок приглашал к прогулкам, а при изредка случавшихся порывах как бы подстёгивал навёрстывать упущенное, спешить по делам и приятным хлопотам. Заставлял приятно шуршать вновь напоенную светом и соками листву площадных гледичий, придомовых и набережных лип, украшавших долгие проспекты, аллеи и прямые линии конских каштанов, платанов и айлантов, пригодных для хороводов павловний, ангелоподобных соцветий альбиций и акаций… Улицы и парки полнились трелями птиц, мелодиями аккордеонов, бойкими криками мальчишек-газетчиков и цветочниц, звонким и полным энергии смехом. Во всяком случае, так казалось на контрасте с почти что месяцем ожидания и ощущений, будто некое существо из недр ада и в самом деле подбиралось к городу.
Город вновь входил в привычный темп и дышал пневматической сетью, наравне с электрической, питавшей оборудование клиник, станки лёгкой промышленности, лифты и насосы, трамвайный парк, но самое важное — часы, делившиеся на уличные — общественные, каковые можно было найти и на фасадах мэрий, и приватные каковые любой желающий мог заказать себе на дом или в контору, оплатив подключение к пневмомагистрали и согласившись на абонентскую плату в размере в среднем полутора франков в месяц с понижением её стоимости для каждых последующих. Сжатый воздух через равные интервалы времени поступал в их механизмы и одномоментно во всём городе переводил стрелки. «Пш-ш» — три часа дня. «Пш-ш» — четыре часа дня. «Пш-ш» — пять часов дня.
Под одним из таких публичных идолов, фыркнув при воспоминании о сотнях и тысячах глаз, Мартин ожидал Селестину. Опоздала ли она? Да какое это имело значение? Теперь всё время мира он готов был разделить с ней. Если переложить на настоящий момент и что-то менее абстрактное, то в этот день выражением сего желания быть вместе намечалось посещение цирка «Пятерни и шестерни», в котором благодаря чудесам прогресса акробаты попирали физические ограничения тел, — следствие врождённых пороков или увечий, — и тем возносились над калечным бытиём, а также пошлостью и подлостью цирка уродцев, чем вдохновляли и зрителей; а были среди таковых и те, кто даже находил привлекательными сии усовершенствованные тела, во многих случаях прикрытые лишь ремнями креплений механолимбов. Мысли об эхоматах совершенно не посещали Мартина и Селестину и не могли бы испортить, вновь возникни по прошествии почти пары донельзя спокойных недель, впечатление от представления, на которое они собирались в эту минуту. Но мистер Вайткроу и мадмуазель де Кюивр были столь увлечены друг другом, а также ожиданием того, что увидят сейчас, и обсуждением планов предаться ринкомании будущим вечером, что не заметили в проезжавшем мимо них автомобиле знакомую фигуру, восседавшую подле иной, которой не только не были представлены, но и которую постарались избавить от знания об их существовании. Знакомая фигура тоже не сразу опознала счастливцев, но, сделав это, не решилась подать им знак и как-то поприветствовать. Её поглощали иные думы.
Лейтенант Евграфов сопровождал господина Менделеева на обратном пути с Четвёртого психологического конгресса, где тот не выступал, не был заявлен участником секций и вовсе предпочёл наблюдать из дальнего и тёмного угла, — Михаил позаботился, чтобы во дворце не осталось ни единой подозрительной лампы, пусть даже и в ущерб освещённости, — не афишируя собственного присутствия, а иной раз еле сдерживаясь от хохота. И Дмитрий Иванович позвал Михаила Дмитриевича для того, чтобы тот увидел плоды своего труда — вернее, одни из. Михаил наблюдал очень внимательно, но только после данного уже в автомобиле комментария смог оценить по достоинству виденное им.
Всё шло чинно-благородно — доклад о душевной деятельности человека как представлении себя, единстве и продолжении «я», доклад об универсальности эстетического суждения с группировкой категорий по ощущениям от органов чувств, интеллектуальному наслаждению и ассоциированным элементам, доклад о сознании умственного усилия с ведущей мыслью о том, что человек подыскивает содержание для имеющихся схем и вступает в борьбу представлений за полный образ, доклад о гербатарианских и физиологических теориях наслаждения с мыслью о неотделимостью наслаждения от жизни и стремления, доклад об определении перцепции, доклад о перипатетизме и экспериментальной психологии, краткий и урезанный доклад об отношении едва заметных к более чем едва заметным разницам, доклад о грамматическом типе словесных ассоциаций, доклад о развитии памяти у детей, представлявших группу из 494 мальчиков и 193 девочек, доклад о цветной индивидуализации на основе наблюдений за госпожами С., К. и И., представлявших людей или поэтические произведения окрашенными в разные цвета в зависимости от их качеств, доклад об опытных исследованиях творческого воображения у детей с различением по ассоциации и случаю, весьма уместный и оценённый Михаилом доклад госпожи Иотейко, как он запомнил, об утомлении в центральных и периферических органах с использованием эргографа — ровно до тех пор, пока не был прочитан не внесённый ранее в программу доклад «Психический институт».
В докладе сообщалось о создании подобного учреждения под управлением Международного общества Психического иститута с такими членами его организационного совета, помимо прочих, как Майерс, Джемс, Ломброзо, Сюлли-Прюдом, Шренк-Нотцинг, прочие, прочие, о которых Михаил ничего не знал, а также читавший сей доклад Охорович и… Менделеев. Тогда Дмитрий Иванович чуть не выдал себя, но удержался в предвкушении последующих баталий. При этом во временный исполнительный комитет должен был войти уважаемый Жанэ, а секретарём общества назначался некий Юрьевич, бывший камер-юнкером при посольстве и, как пояснил Дмитрий Иванович, протеже Муравьёва-Амурского. Последний, к слову, наравне с Менделеевым, Охоровичем, Мечниковым, графом Апраксиным и другими входил в попечительный совет Психического института.