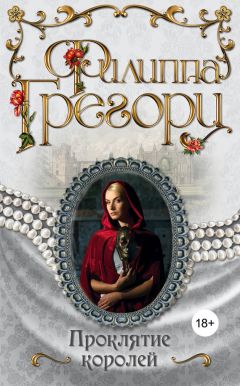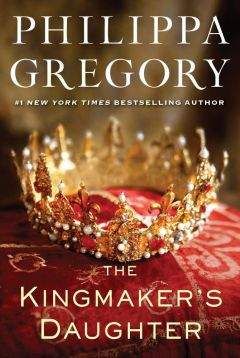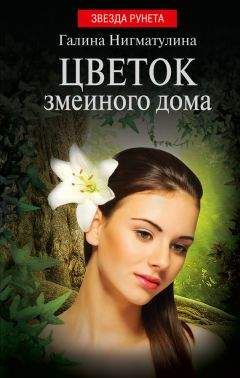Проклятие королей - Грегори Филиппа
Повисает пораженная тишина, но все понимают, что в своей гнетущей тоске Монтегю прав.
– Ты уверен? – только и говорю я.
Я знаю, что он уверен. Мне не нужно смотреть в его искаженное мукой лицо, чтобы это понять.
Он кивает.
– У нас хватит сторонников, чтобы противостоять Биллю в парламенте? – спрашивает Генри Куртене.
Это знает Джеффри.
– У королевы должно хватить сторонников, чтобы проголосовать против. Если все отважатся сказать, что думают, то голосов хватит. Но им придется встать и высказаться.
– Можем ли мы быть уверены, что они выскажутся? – спрашиваю я.
– Кто-то должен пойти на риск и выступить первым, – горячо произносит Гертруда. – Один из вас.
– Ты недолго продержалась, – пренебрежительно замечает ее муж.
Гертруда улыбается.
– Знаю, – соглашается она. – Я думала, что умру в Тауэре. Думала, что умру от холода и болезни, не дождавшись суда и повешения. Это ужасно. Я там провела несколько недель. Я бы там до сих пор сидела, если бы не отрицала все и не молила о прощении. Сказала, что я – просто неразумная женщина.
– Боюсь, что король готов теперь воевать с женщинами, неразумными или какими угодно, – мрачно произносит Монтегю. – Никому больше не дадут этим отговориться. Но кузина Гертруда права. Кто-то должен выступить. Думаю, это должны быть мы. Я поговорю со всеми нашими друзьями, скажу, что Билля о лишении прав против королевы и принцессы не должно быть.
– Том Дарси тебе поможет, – говорю я. – И Джон Хасси.
– Да, но Кромвель нас опередит, – предупреждает Джеффри. – Никто не управляется с парламентом так, как Кромвель. Он будет там раньше нас, у него бездонные карманы, и люди его боятся. Он знает какую-то тайну про каждого. У него все в кулаке.
– Реджинальд может убедить императора высадиться? – спрашивает меня Генри Куртене. – Принцесса умоляет о спасении, император может хотя бы прислать корабль, чтобы ее увезти?
– Говорит, что высадится, – отвечает Джеффри. – Он обещал Реджинальду.
– Но оба дома охраняют. К Кимболтону трудно подойти незамеченным, – предостерегает его Монтегю. – А с начала месяца все порты возьмут под охрану. Король прекрасно знает, что испанский посол вступил с принцессой в сговор, чтобы попытаться ее увезти. За ней пристально следят, в Англии нет ни единого порта, где не дежурили бы шпионы Кромвеля. Не думаю, что нам удастся вывезти ее из страны, будет тяжело выручить ее из Хансдона.
– Мы можем спасти ее и спрятать в Англии? – спрашивает Джеффри. – Или отправить в Шотландию?
– Я не хочу отправлять ее в Шотландию, – перебиваю его я. – Что, если ее захватят?
– Может статься, что придется, – говорит Монтегю, и Куртене со Стаффордом кивают в знак согласия. – Точно ясно одно: мы не можем позволить заключить ее в Тауэр, мы должны помешать парламенту Кромвеля принять Билль о лишении прав и приговорить принцессу к смерти.
– Реджинальд пытается добиться, чтобы об отлучении короля объявили во всеуслышание, – напоминаю я.
– Оно нам нужно незамедлительно, – говорит Монтегю.
Джеффри посещает всех значительных землевладельцев вокруг Уорблингтона и своего собственного дома в Лордингтоне и говорит с ними о Билле о лишении королевы и принцессы прав и о том, что нельзя допустить, чтобы он попал в парламент. Монтегю в Лондоне тайно обсуждает с избранными друзьями при дворе, что принцессе нужно позволить жить с матерью, что ее не нужно так строго охранять. Большой друг и товарищ короля сэр Фрэнсис Брайан согласен с Монтегю, он предлагает поговорить с Николасом Кэрью. Эти люди – самое сердце двора Генриха, и они начинают возмущаться тем, какое зло король причиняет жене и дочери. Я начинаю думать, что Кромвель не посмеет предложить в парламенте арестовать королеву. Он поймет, что сопротивление усиливается; он не захочет открытого столкновения.
Осенние разъезды сказались, она снова беременна. Из Рима нет вестей, и король чувствует себя уверенно. Он то и дело у нее, флиртует с дамами; ей все равно. Если у нее родится мальчик, она будет неприкосновенна.
Дражайшая леди матушка, с печалью сообщаю вам, что вдовствующая принцесса тяжело больна. Я спрашивал лорда Кромвеля, можно ли вам навестить ее, и он ответил, что не в его власти разрешать подобные посещения. Испанский посол был у нее сразу после Рождественских празднеств, и Мария де Салинас направляется туда. Не думаю, что мы можем сделать что-то еще.
Ваш покорный и любящий сын, Монтегю
Я еду по ледяным дорогам в Лондон, покрыв голову плащом и обмотав шею десятком шарфов, чтобы хоть как-то согреться. У дверей своего лондонского дома я валюсь с седла, и Джеффри ловит меня, ласково говоря:
– Ну-ну, ты уже дома, даже не думай о том, чтобы ехать в Кимболтон.
– Я должна поехать, – отвечаю я. – Я должна с нею попрощаться. Должна молить ее о прощении.
– Что ты и когда сделала против нее? – спрашивает он, провожая меня в большой зал.
В очаге горит огонь, я чувствую лицом его мерцающее тепло. Мои дамы бережно снимают с меня тяжелый плащ и разматывают шарфы, стягивают перчатки с моих замерзших рук и стаскивают с меня сапоги для верховой езды. У меня все болит от холода и усталости. Я ощущаю каждый год из своих шестидесяти двух.
– Она поручила мне принцессу, а я не осталась подле нее, – коротко отвечаю я.
– Она знает, что вы сделали все, что могли.
– Да гори это все в аду! – вдруг вырывается у меня богохульная ругань. – Я ничего для нее не сделала, как собиралась, мы вместе были молоды, кажется, еще вчера, а теперь она лежит при смерти, а ее дочь в опасности, и мы не можем до нее добраться, а я… я… я просто глупая старуха, и я совершенно беспомощна. Беспомощна!
Джеффри опускается передо мной на колени. На его милом лице мешаются смех и исполненная печали жалость.
– Я не знаю ни одной женщины на свете, которая была бы менее беспомощна, – говорит он. – Никого, кто был бы решительнее или сильнее. И королева знает, что ты думаешь о ней и молишься за нее, прямо сейчас.
– Да, молиться я могу, – отвечаю я. – Я могу молиться, чтобы ее хотя бы осенила благодать и ей было не больно. Я могу молиться за нее.
Я тяжело поднимаюсь и ухожу от соблазнительного огня и бокала пряного эля в часовню, где встаю на колени на каменном полу, – так всегда молится она, – и вручаю душу моего дорогого друга Катерины Арагонской в руки Божьи в надежде, что на небесах Он позаботится о ней лучше, чем заботились о ней мы здесь, на земле.
Там-то Монтегю меня и застает, когда приходит сказать, что ее не стало.
Она ушла с величайшим достоинством; это должно быть утешением и мне, и ей. Подготовилась к смерти, долго говорила с послом, с ней рядом была милая Мария, приехавшая верхом по зимней стуже. Катерина написала своему племяннику и королю. Говорят, она написала Генриху, что любит его, как всегда любила, и подписалась его женой. Она молилась со своим духовником, и он помазал ее освященным елеем, совершил последнее помазание, так что она, в согласии со своей неколебимой верой, была готова к смерти. Вскоре после полудня она ускользнула из этого мира, который был для нее суровым и неблагодарным трудом, и – я уверена в этом, точно сама видела, – соединилась со своим супругом Артуром в мире грядущем.
Я вспоминаю ее такой, какой впервые увидела: молодой женщиной, дрожащей от волнения из-за того, что она – принцесса Уэльская, озаренной любовью, своей первой любовью, и думаю, как она ушла на небеса в сопровождении пяти своих маленьких ангелов; одна из чудеснейших королев, когда-либо дарованных Англии.
– Конечно, для принцессы Марии это меняет все к худшему, – бурно восклицает Джеффри, врываясь в мои личные покои и сбрасывая зимний дублет.