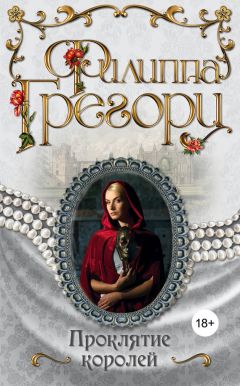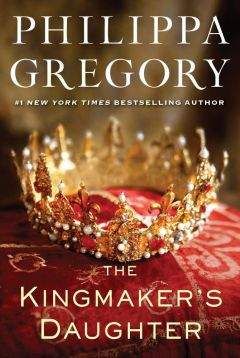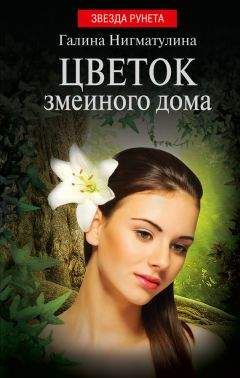Проклятие королей - Грегори Филиппа
– Он опять влюбился? – жадно спрашиваю я.
– Флиртовал; но королева Болейн пыталась добиться ее изгнания, и это стоило ей невестки.
– А девушка?
– Я даже не знаю, как ее зовут. Теперь он ухаживает за Мадж Шелтон, – говорит Джеффри. – Посылает ей любовные песни.
Я внезапно исполняюсь надежды.
– Это лучший подарок к Новому году, какой ты мне мог подарить, – говорю я. – Еще одна девушка Говардов. Это расколет семью. Они захотят ее пропихнуть.
– А Болейн остается совсем одна, – говорит Джеффри, и в голосе его едва не слышится сочувствие. – Единственные, на кого она может рассчитывать, – это ее родители и брат. Все прочие – соперники или угроза.
Я получаю от Монтегю записку без подписи:
Сейчас ничего делать нельзя, принцесса больна, есть опасения за ее жизнь.
Я тут же сжигаю записку и иду в часовню молиться за принцессу. Вдавив основание ладоней в горячие глаза, я молю Господа поберечь принцессу, ведь она – надежда и свет Англии. Она больна, серьезно больна, говорят, принцесса, которую я люблю, так слаба, что может умереть, и никто не знает, что с ней.
Кузина Гертруда пишет мне, что королеву собираются убить, задушив ее в постели и оставив тело без единого синяка, а принцессу травят люди Болейнов. Я не могу решить, верить этому или нет. Я знаю, что королева Анна настаивает на том, чтобы истинную королеву обвинили в измене без разбирательства и казнили за закрытыми дверями. Неужели в ней столько зла, в этой женщине, которая когда-то была дочерью моего мажордома, что она готова тайно убить свою бывшую госпожу?
Я ни мгновения не думаю, что Генрих замышлял что-то из этого, он послал к принцессе собственного врача и сказал, что ее можно перевезти поближе к матери в Хансдон, чтобы ее мог лечить врач королевы.
Но он не позволил ей поселиться с матерью королевой, которая оберегала бы ее и выхаживала. Я снова пишу Томасу Кромвелю и умоляю, чтобы мне позволили поехать к принцессе, ходить за ней, только пока она больна. Он отвечает, что это невозможно. Но уверяет меня, что, как только она подпишет присягу, я смогу к ней поехать, она сможет явиться ко двору, она будет возлюбленной дочерью своего отца – как Генри Фитцрой, добавляет он, словно я по этому поводу испытаю какие-то чувства, кроме ужаса.
Я отвечаю ему, что возьму своих слуг и своего врача, что буду жить с принцессой за свой счет. Что устрою для нее дом и буду советовать подписать присягу, как подписала сама. Я напоминаю ему, что была одной из первых, кто это сделал. Я не такая, как епископ Фишер или лорд Томас Мор. Я не руководствуюсь совестью. Я из тех, кто клонится под ветром, как гибкая ива. Кликни еретика, изменника, Иуду, и я по доброй воле отзовусь, превыше всего я ставлю свою безопасность. Меня вырастили малодушной и вероломной; таков был болезненный, незабываемый урок, преподанный мне в детстве. Если Томасу Кромвелю нужен лжец, вот она я, готовая верить, что король – глава церкви. Я поверю, что королева – вдовствующая принцесса, а принцесса – леди Мария. Я заверяю его, что готова поверить во что угодно, во все, что прикажет король, если только он позволит мне поехать к принцессе и пробовать ее пищу, прежде чем она станет есть.
Он отвечает, что рад был бы мне услужить, но это невозможно. Пишет, что, как ни жаль ему сообщать мне об этом, бывший наставник принцессы Ричард Фезерстон в Тауэре за то, что отказался принять присягу. «Наставником у вас был изменник», – замечает он мимоходом, но угрожающе. И бросает, точно в сторону, что очень рад, что я готова поклясться в чем угодно; поскольку Джона Фишера и Томаса Мора будут судить за измену и сомневаться в исходе ни к чему.
И, добавляет он в самом конце, король собирается посоветоваться с Реджинальдом относительно этих изменений! Я едва не роняю письмо, не веря своим глазам. Король написал Реджинальду, чтобы узнать его ученое мнение о своем браке с Анной Болейн и его мысли о принадлежности английской церкви. При дворе надеются, что Реджинальд поддержит взгляды короля: король Англии должен быть главой церкви, поскольку – несомненно – только король может править своим королевством.
Я тут же пугаюсь, что это ловушка, что они надеются обманом заставить Реджинальда произнести такое, что он сам себя приговорит. Но лорд Кромвель учтиво пишет, что Реджинальд ответил королю и сейчас изучает данный вопрос с большим интересом, он согласился написать королю, как только придет к выводу. Он будет читать, изучать и обсуждать это дело. Лорд Кромвель полагает, что сомневаться в сути его рекомендаций незачем, коль скоро он обещал высказаться как верный и любящий сын церкви.
Я велю подать лошадь и зову стражника, чтобы сопровождал меня. Еду в свой лондонский дом и посылаю за Монтегю.
– Епископа Фишера, а потом и Томаса Мора судили, – устало говорит Монтегю. – Нетрудно было предсказать, каким будет приговор. Судьями были Томас Говард, дядя Болейн, ее отец и брат.
Вид у Монтегю измученный, словно он обессилел от нынешних времен и от моего возмущения.
– Почему они не могли принести клятву? – горюю я. – Поклясться, зная, что Господь их простит?
– Фишер не мог притвориться, – Монтегю берется за голову. – Король всех нас просит притворяться. Иногда нам нужно сделать вид, что он – прекрасный незнакомец, явившийся ко двору. Иногда, что его ублюдок – герцог. Иногда нам нужно притвориться, что нет никакого умершего младенца; а теперь от нас требуется делать вид, что он – верховный глава церкви. Он называет себя английским императором, и никому нельзя возвысить голос против.
– Но он в жизни не причинит вреда Томасу Мору, – возражаю я. – Король любит Томаса, он позволил ему сохранить молчание, когда другим пришлось давать советы по поводу брака. Он заставил говорить Реджинальда, а Томасу позволил промолчать. Он позволил ему вернуть печать лорд-канцлера и уехать домой. Сказал, что если тот смолчит, то сможет жить тихо, в уединении. И Томас так и сделал. Он жил с семьей, говорил всем, что рад вновь стать простым ученым. Невозможно, чтобы король приговорил своего друга, столь любимого друга, к смерти.
– Поспорить готов, приговорит, – отвечает Монтегю. – Сейчас просто ищут день, который не вызвал бы волнения подмастерьев. Джона Фишера не смеют казнить в день памяти святого. Боятся, что создадут нового.
– Господи, почему они оба не попросят о прощении, не покорятся воле короля и не выйдут на волю?
Монтегю смотрит на меня как на дуру.
– Ты представляешь, чтобы Джон Фишер, духовник леди Маргарет Бофорт, один из самых благочестивых людей, когда-либо наставлявших церковь, публично отрекся от Папы и сказал, что тот – не глава церкви? Поклялся бы в ереси пред очами Господа? Как он может так поступить?
Я качаю головой, меня ослепляют наполнившие глаза слезы.
– Чтобы жить, – в отчаянии говорю я. – Нет ничего важнее этого. Чтобы ему не пришлось умирать! За слова!
Монтегю пожимает плечами:
– Он этого не сделает. Не сможет себя заставить. И Томас Мор тоже. Ты не думаешь, что это приходило ему в голову? Томасу? Умнейшему человеку в Англии? Я полагаю, он каждый день об этом думает. Наверное, учитывая любовь Томаса к жизни и к своим детям, особенно к дочери, это величайший соблазн для него. Думаю, он каждый день отвергает его, каждую минуту.
Я падаю в кресло и закрываю лицо руками.
– Сын, эти добрые люди умрут, но не напишут свое имя на куске бумаги, который принес им негодяй?
– Да, – отвечает Монтегю. – И если бы я был мужественнее, я сделал бы то же самое и был бы с ними в Тауэре, а не дал им уйти туда, как Иуда; я хуже Иуды.
Я тут же поднимаю голову.
– Не желай этого, – тихо говорю я. – Не желай себе попасть туда. Никогда такого не говори.
Он на мгновение умолкает.
– Леди матушка, близится время, когда нам придется восстать – против советников короля или против него самого, против короля. Джон Фишер и Томас Мор восстают сейчас. Мы должны бы встать с ними рядом.