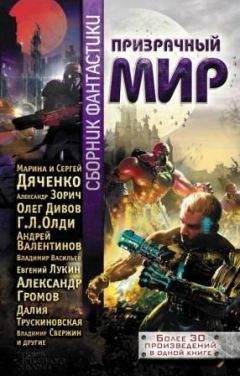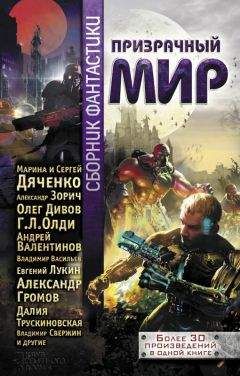Сара Бауэр - Грехи дома Борджа
– Он сидит в кресле и принимает делегацию от кардинала Карафа, – сообщила монна Ванноцца. – Кажется, они обсуждают выборы.
Она оглядела тесное помещение, выискивая, где бы присесть. Молодой священник, сопровождавший монну Ванноццу, наконец понял намек и принес низкий треногий табурет, спотыкаясь об узлы с одеждой и свернутые постели. Она несколько раз энергично протерла табурет ладонью, потом опустилась на него и расправила юбки. Я вдруг подумала, что она, наверное, требует образцового порядка в купленных на папские деньги гостиницах в Риме, и горе той горничной, которая оставила хоть пылинку в углу или плохо заправила постель.
Джироламо повернул головку к бабушке и уставился на нее не мигая своими темными глазами. Не знаю, показалось ли мне, но, кажется, ее передернуло. Резкий ветер грохотал ставнями и раздувал нижние юбки, висевшие на стенных крючках возле одного окна-бойницы.
– На завтрак он съел две чашки куриного бульона с миндальным молоком и даже попытался потребовать ветчины, но сир Торелла возразил, что это было бы неразумно, – продолжила монна Ванноцца. – Виоланта, позволь сказать тебе кое-что. – Она наклонилась ко мне, упершись локтями в колени, и заговорила тихо, чтобы не услышал священник: – Лучше бы ему умереть в детстве, когда Господь хотел призвать его. Лучше бы он не дожил до сей поры, разбив все мои надежды, связанные с ним.
Более ужасных и неестественных слов из уст матери я не могла представить, и все же я выслушала их с облегчением, потому что теперь не сомневалась – она сумасшедшая, и, что бы она ни думала о донне Лукреции, что бы там ни говорили обо мне в синагоге в Толедо, ни одна из нас не была ведьмой. Если Чезаре подольстился к судьбе, чтобы исполнилась его воля, то действовал один.
– Я полагала, что однажды он тоже станет понтификом, но у него появились другие идеи. Они не могли не привести к конфликту с отцом. И что бы он там ни считал, он всегда нуждался в защите Родриго.
– Неужели вы всерьез думали, госпожа, что он подходит для церкви?
– Он был бы там защищен от… нее.
– Право, монна Ванноцца, я не могу больше это слушать. Ваша досточтимая дочь была ко мне добра и щедра. Она моя крестная мать, и мне подобает не слушать подобные наветы в ее адрес. Прошу вас…
– Ладно, я ухожу, но ты глупая наивная девчонка и не видишь, что творится у тебя под носом. Даже стены замка вопиют об этом. Хотя, вероятно, ты просто упрямишься.
Она выплыла за дверь, чуть не столкнувшись с Фатимой, смуглой девушкой с золотыми сережками в виде каскада крошечных монет, от которой всегда попахивало тмином. Молодой священник поспешил за своей госпожой, отреагировав на голые руки и алые губы Фатимы побагровевшим затылком.В тот же день, ближе к вечеру, Микелотто отыскал меня в судомойне, где я стирала вещички Джироламо.
– Он просит вас, – сообщил он, подпирая низкий косяк двери, а за его головой проплывали облака и клубился пар в том месте, где земля обрывалась в каменистое, поросшее мелким кустарником ущелье вместе с водопадом.
– Сейчас не могу… – Я распрямилась над каменной лоханью и убрала с лица мокрые пряди волос. Руки покраснели и распухли, как у прачки. – Приду немного позднее.
– Вообще-то, он потребовал вас, – уточнил Микелотто, почти извиняясь. Вот насколько все изменилось.
– Но…
– Он тоже выглядит не лучшим образом.
Я размотала простыню, которую обернула вокруг себя, чтобы уберечь одежду, и последовала за ним.
Чезаре сидел в кресле с высокой спинкой лицом к окну. В губернаторских покоях были настоящие окна, частично остекленные, выходящие в небольшой сад. Из них же открывался вид на терракотовые и покрытые желтым мхом крыши городка Непи, располагавшегося у подножия холма. Косые лучи осеннего солнца падали на правую руку Чезаре, лежавшую на подлокотнике кресла, высвечивая пороховой ожог, рыжевато-золотистые волоски и сапфировое обручальное кольцо. Оно стало не по размеру большим, соскальзывало до сустава. У кресла стоял маленький столик, заваленный документами с печатями, которые свешивались на ленточках, словно необычные фрукты – алые, пурпурные, зеленые, золотые, а одна была багрово-коричневой, любимого цвета донны Лукреции.
Я пересекла комнату и присела в поклоне, чувствуя, что Микелотто вышел, прикрыв за собою дверь.
– Что ж, Виоланта, не следует ли мне изменить твое имя? Может, теперь я должен называть тебя Панацеей или Эгерией? Говорят, ты спасла мне жизнь.
– Я думаю, только Он, кто дает жизнь и забирает ее, может это сделать, господин, и с моей стороны было бы самонадеянно утверждать, будто я была Его инструментом. Вы сильны, о вас хорошо заботились.
– Ради Бога, оставь это «выканье» и не спорь со мной. Мы ведь с тобой немного продвинулись дальше? Мальчика привезла? Я бы хотел увидеть его. Мать утверждает, что он моя копия.
Неужели она действительно так говорила?
– Теперь, когда я убедилась, что ты достаточно окреп, я его принесу. Я не была уверена… Ты ведь так и не ответил на мое письмо.
Я почувствовала, что Чезаре мысленно приказывает мне посмотреть на него, как это делают прокаженные, когда проходишь мимо них на улице, отворачиваясь и закрывая нос платком, и, как в случае с прокаженными, я не могла этого сделать.
– Письмо? – Он, похоже, удивился.
– Я писала, что беременна. Наверное, письмо так и не дошло. Я послала стихи… Пьетро Бембо.
Молчание. Я почувствовала себя полной дурой. Сколько еще девушек писали или платили писцу, чтобы он написал, или мечтали о том, чтобы написать мужчине, подобному Чезаре? Какое право я имела думать, что он меня запомнит?
– Ах да, – произнес он через несколько секунд, прокашлялся и принялся перебирать складки свободного парчового халата, поглаживая соболью оторочку. – Стихи, кстати, сочинил не Бембо. – Сказал так, словно знал, как я их раздобыла. В общем, вывел меня на чистую воду. – Тебе не следовало посылать их. Вот почему я не ответил.
Я уставилась на его руки и открыла рот, чтобы спросить, почему Чезаре не пожелал ответить, но увидела, как он внезапно сжал кулаки до побелевших костяшек, захватив при этом ткань халата, и слова замерли у меня на языке.
– Прости, – прошептала я и попыталась сглотнуть, но во рту пересохло.
Чезаре поднял руки и развел в стороны в умиротворяющем жесте.
– Неважно. Все это давно прошло. Я бы хотел увидеть сына.
– Прямо сейчас?
– А что такого? Или ты считаешь меня настолько уродливым, что я могу его испугать? – Он хрипло расхохотался. – Я заметил, что ты упорно не смотришь в мою сторону, хотя не так давно не могла отвести от меня зачарованного взгляда.
Я уставилась на свои испорченные туфли. Наверное, на меня повлияли предрассудки монны Ванноцци, но мне почему-то казалось, что этот усохший, изможденный человек, почти слившийся с высоким темным креслом, был вовсе не Чезаре. А если бы я посмотрела ему в лицо, я бы сразу все поняла и больше не смогла бы притворяться, и все мои мечты и сны сразу бы улетучились под неподвижным взглядом этого мертвеца.
– Выходит, ты современная Далила. Я ослаб, лишился волос, и ты теперь побежишь к своим филистимлянам.
– Но, по-моему, господин, вы сейчас хромаете на обе ноги. – Я увидела, что суставы и лодыжки его ног, покоящихся на подставочке, были такие же распухшие, как и запястья.
– К чему ты клонишь?
– Тогда я буду говорить медленнее.
– Мне сейчас не до шуток.
– Прости. По иудейской легенде, Самсон страдал хромотой.
– Невольно напрашивается вопрос, что в нем увидела Далила. – Чезаре перевел шутку на себя.
Только теперь я посмотрела на него, привлеченная внезапно вернувшейся прежней интонацией, иронией, отголосками того времени, когда я была счастлива, сама не подозревая о том, охваченная любовной лихорадкой. Черты исхудавшего лица обострились, но Чезаре смотрел на меня, как храбрый ребенок, не уверенный в будущем, испуганный и в то же время непреклонный. Маски спадали одна за другой, и чем меньше в нем оставалось блеска, тем меньше я его понимала.
– Присядь, Виоланта, – велел Чезаре. Я нашла табуретку и перетащила ее к окну, где стояло его кресло. Он покрутил кольцо на пальце, разгладил манжеты и проговорил: – Дети для меня важны.
– Конечно, важны. Должны же у тебя быть наследники.
– Я имел в виду другое. – Чезаре помолчал и продолжил: – Когда Хуана сделали гонфалоньером, отец заказал новый вариант «Beatus Vir» для службы. После смерти Хуана эта честь перешла ко мне, но на моем посвящении было исполнено то же самое произведение. И вот теперь, когда отец мертв, я уже не смогу заставить его полюбить себя. Я всегда был для него просто заменой Хуана. Не такой красивый, не такой обаятельный, не такой любимый. Я являлся для него не настолько значимой фигурой, чтобы заказывать ради меня новую музыку. То, что давалось мне лучше – стратегия, тактика, политика, управление, дипломатия, – имело значение лишь для его ума, но не для сердца. Он ни разу не прислал за мной, когда понял, что умирает. Все то время я лежал больной этажом ниже, и он ни разу не прислал узнать, как у меня дела. Я так и не нашел места в его сердце, а теперь слишком поздно. Его больше нет. Один прах. Понимаешь? – Он высекал слова из камня, создавая идеальную скульптуру.