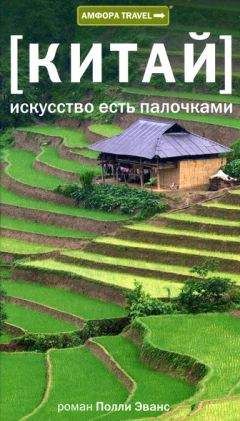Эмилия Остен - Невеста для виконта
Меня отправили в каменоломни на юге, по дороге я, скованный единой цепью с другими каторжниками, еще лелеял мечту сбежать. Во мне кипел праведный гнев, я жаждал справедливости, надеялся вскоре увидеть Шарлотту, вырвать ее из рук сумасшедшего брата. С каждым днем эта надежда таяла. Я прошел по дорогам Франции с севера на юг, и солнце грело все суше, надежда становилась все призрачнее. За нами наблюдали днем и ночью. Цепи натирали кровавые полосы на руках и ногах. Я видел, что делают охранники с теми, кто пытается бежать; слушал рассказы тех, с кем оказался отныне связан в буквальном смысле слова; впитывал в себя новые знания, как губка. Я был молод, честолюбие кипело в моей крови, и жажда мести подогревалась воспоминаниями. Я хотел выжить, освободиться и отомстить.
Нас пригнали в каменоломни в нескольких десятках километров от Тулузы, здесь добывали камень для строительства города, десятки людей ползали, словно мухи, прилепившиеся к стенам, и злое солнце жарило, выпивая силы за считаные дни. Мы работали как на открытом воздухе, так и внутри, в сырых, пропахших тухлой водой залах. Многие пришедшие со мной погибли в первые же дни, я остался жить.
Я понял, что выживание – вопрос не только физического здоровья и воли Господней, но в большой степени тренировка ума, напряжение воли. Я не давал себе скатиться в безумие. Да, мне едва исполнилось девятнадцать, да, я был сыном аристократа и до сих пор не пачкал руки черной работой, но я оставался человеком, которого создал Господь. В тяжелые дни многие отворачиваются от Бога, считая, что Он позабыл о них, я же решил, что Он все помнит. Я чувствовал пристальный Божий взгляд, лежа на тонком, кишащем паразитами тюфяке и пытаясь заснуть. Работая киркой, таская куски известняка в деревянные ящики, толкая груженые тачки, я повторял про себя куски Писания, цитаты из греческих философов, списки ингредиентов для составления разных смесей. И постепенно ум мой отрывался от тела и парил надо мною, словно птица; со мной могли что угодно сотворить там, внизу, а наверху я оставался свободным.
Я вел себя примерно, не бунтовал, не пытался бежать, не грубил надсмотрщикам. К чему? Все это отдалило бы меня от цели, к которой я шел медленно, но верно. Я изменился. В те дни, когда многие ломаются, презрев бытие земное и проклиная мучителей, я вытачивал внутри ненависть, ненависть к виконту де Мальмеру, отплатившему мне столь жестоко за любовь к его сестре. Я не знал, что сталось с Шарлоттой, постепенно я забыл ее запах, помнил лишь черты. Любовь ушла, растворилась в заполненных тяжелой работой днях. Осталась лишь память о любви.
Иногда, если вдруг выпью лишнего – а со мной это случается чрезвычайно редко, Маргарита, – я вспоминаю того мальчика и улыбаюсь грустной улыбкой. Мы – глина в Господних руках, по-прежнему глина, хотя со времен сотворения Адама прошли тысячелетия; каждый из нас – все тот же мягкий комок, и Господь разминает его в натруженных пальцах. Он лепил меня, пристально вглядываясь в то, что получается, а когда закончил, я стал таким, каков я есть теперь.
Не скажу, что там было совсем плохо; сказать так – значит солгать. Может быть, мне просто везло. Не попадались мне ни жестокие надсмотрщики, ни охранники, развлекающиеся убийством каторжников. Если вести себя примерно, то жизнь текла достаточно спокойно. Меня и выпороли-то всего пару раз.
Среди моих товарищей по несчастью люди попадались разные. Конечно, были и убийцы, и грабители, и разбойники, но встречались и люди образованные. Эти ожесточались чаще всего, сетуя на несправедливость мира. Я не водил дружбу ни с кем, кроме одного человека – местного лекаря.
Он был каторжанином, как и мы, только на более вольных условиях: цепи не таскал, жил не в бараке, а в хлипкой хибаре рядом с казармами. Вот кого Бог коснулся сразу, обжег еще в детстве: в больших, неуклюжих с виду руках мэтра Виссе пряталось настоящее врачебное волшебство. Он оказался слегка грубоват и весьма циничен, как часто бывают врачи; через некоторое время я понял, что он – именно тот человек, благодаря которому можно выбраться отсюда.
Мы сдружились, мало-помалу я рассказал ему свою историю. Он поцокал языком, покачал головой:
– Да тут вас много таких, несправедливо осужденных. Что ж ты, мальчик, думаешь, мир состоит из одной справедливости? Ха! Справедливость – мечта да выдумка, вроде зеленых чертей, только в пьяном угаре и можно увидать.
– Нет, – сказал я, – я так не думаю.
Со временем я узнал, что у него нет ни семьи, ни детей, на каторгу его упекли по подозрению в колдовстве, хорошо хоть, сразу на площади не вздернули. Это удача, считал мэтр Виссе. Потом, много позже, я выяснил, что срок его давно истек и он может уйти; я спросил, почему он остался.
– Так ведь платят, милый мой Реми. Гроши, но платят, к тому же дом мой тут, – он обвел рукой свою нищую хибару. – Ну и еще одна мысль меня останавливает. Если я уйду, с кем останетесь вы?
Ни слова не говоря о долге, он научил меня чувству долга; ни слова не говоря о чести, научил меня ей. Я выяснил, что честь – это понятие, которое равно относится и к простолюдину, и к человеку знатному. Я видел, как люди титулованные совершают бесчестные поступки, видел, как гордо держат голову те, кто родился в борделе. И Господь прибавил огня, чтоб я обжигался быстрее.
Виконт де Мальмер наверняка рассчитывал, что я и полугода не протяну, с хилым своим здоровьем, скисну, да и пропаду в каменных стенах; я прожил и год, и три, и пять. Узнал, что такое настоящая физическая боль, понял, где предел моих возможностей, и научился слушать то, что происходит вокруг. Мои товарищи, с которыми мы хоть и не дружили, да все же работали бок о бок, делились со мной шутовскими уловками и воровскими хитростями, я все запоминал. Случались драки, несколько раз меня пытались убить – за кусок хлеба, за косой взгляд; я научился убивать в ответ. Разбойники стали моими учителями. Никогда я не получил бы тех знаний, не окажись я там.
Самое странное, что я не чувствовал себя несчастным. Конечно, приходили мысли об отце, о Шарлотте, хотелось выбраться на волю. Но я не впал в грех уныния, не терзался жалостью к себе. Иных ломают и меньшие неприятности: косой взгляд возлюбленной, банкротство, мелкое предательство – человек заламывает руки и считает, что жизнь кончена. Я же понял простую истину: жизнь не кончена, пока ты дышишь. Вот ляжешь в сухую землю, засыплют комьями твой открытый в последнем вздохе рот, тогда представай перед Богом и Его ангелами и жалуйся на несправедливость. Пока же дышишь, живи; жизнь не в деньгах, не в предательстве, не в других, жизнь в тебе самом.
Наверное, так не полагается думать утонченному аристократу, полагается страдать и сетовать на судьбу. Только я всегда был простым человеком.
Шли годы, и я понимал, что пора уходить. Виконт де Мальмер старше меня, и я опасался, что он скончается, меня не дождавшись. Я не знал, как ему отомщу, для этого мне не хватало деталей, лишь был уверен, что легко он не отделается. Однажды я заговорил с мэтром Виссе о побеге. Лекарь посмотрел на меня долгим печальным взглядом.
– И зачем я с тобой знаниями делился, если ты бежать намерен? – сварливо спросил он.
– Я молод еще, – сказал я, – хорошо бы мне на свободу. Это вы можете уйти, когда вздумается, а у меня там дела не закончены.
– Знаю я все твои дела. Только и ждешь, чтоб тому паршивому аристократишке глотку перерезать.
– А хотя бы и так?
– Да ведь поймают и сюда вернут. Хотя нет, не вернут уже. Там же головы и лишишься.
– Это если поймают.
– Ну да, ну да.
Он долго думал, вздыхал, я ему не мешал.
– Хорошо, – сказал он наконец, – так и знал, что однажды ты ко мне с этим придешь. Многие приходят, но лишь некоторым я отвечаю согласием. Есть один способ, только потрудиться придется. Выдержишь, доверишься мне – станешь свободен. Побоишься – сиди тут и долби камешки, много их еще, на твой век хватит.
Я согласился.
Мэтр Виссе меня не обманул: через две недели я оказался на свободе. Его друзья в Тулузе помогли мне с одеждой, я остриг волосы коротко, чтобы вывести паразитов, и смылся оттуда поскорее, пока не застукали.
Я не знал, куда идти. Домой? Но что там осталось от дома? Едва меня увидят и узнают, как отправят обратно – все-таки я бежал с каторги, обвинений с меня никто не снимал. Деньги заканчивались, стояла промозглая осень, я сильно простудился, меня мучили мигрени. В полубреду я решил укрыться в Альпах, там много затерянных деревень, куда стражники годами не заглядывают.
Так я попал в Пин-прэ-дю-Рюиссо.
Не помню, как туда дошел. Помню размытую дорогу, укрытые мхом камни, огоньки вдалеке, лай собак. Я постучался в дом рядом с церковью, мне открыл человек средних лет, в сутане, кажется, я упал ему на руки.
Придя в себя через несколько дней, я обнаружил, что оказался в доме местного священника; отец Реми де Шато – так его и звали. Узнав, что меня тоже зовут Реми, он сильно обрадовался, сказал, что это знак Господень.