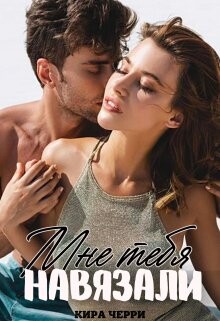В твоих глазах (ЛП) - Джусти Амабиле
Затем, не говоря больше ни слова, девушка нанесла ему удар и по носу. Байрон почувствовал ослепительную боль и привкус крови во рту за мгновение до того, как она обернулась, окинула взглядом сцену, поняла, кого ранила и моргнула один раз, медленно, с покорностью человека, который знает, что больше не может ни бороться, ни бежать.
Глава 5
Франческа
Я, конечно, не живу во дворце, но мне нравится моя квартира. Внутри почти ничего нет, кроме кровати, книг, кресла и компьютера. Я сижу на коврике, прислонившись к белой стене, и пытаюсь написать это чёртово стихотворение.
Мой разум — угонщик. Террорист. Как бы я ни старалась заставить его идти по какому-то пути, он приставляет пистолет к моему виску и возвращается к Маркусу. Я хочу его забыть и должна забыть, но некоторые вещи легче сказать, чем сделать. Как можно вычеркнуть из памяти мужчину, от которого тебя не тошнило и не возникало желание вытащить нож, чтобы вытатуировать его внутренности? Для меня поэзия — это жизнь, спасение, мужество, кровь, пролитая ради выживания. И всё это возвращает меня к нему.
На ум приходят с почти болезненной настойчивостью несколько строк из «Похоронного блюза» Одена. Только эти, их я повторяю бесчисленное количество раз.
Он был мой Север, мой Восток, мой Запад и мой Юг,
Моей труда неделей, Воскресенья моего досуг.
Мой полдень, моя полночь, разговор и песня.
Я ошибалась, полагая, что любовь продлится вечно.
Инстинктивно сжимаю пальцы вокруг запястья. Прямо над отметинами, что нанесла себе в двенадцать лет, я ношу браслет, который никогда не снимаю. Никакой ценности в браслете нет, кроме того, что связывает меня со временем и местом. В шестнадцать лет мы с Маркусом тайно встречались по ночам в приюте, перелезая через стены, ворота, и разделяющие нас преграды. Мы были как животные на цепи. Мы были похожи на падших ангелов. Наши поцелуи были не просто поцелуями, это были опоры, подвешенные над пропастью. Я цеплялась за его язык, словно оставив его, могла провалиться в пустоту. Его тело заставляло меня чувствовать себя живой, защищённой, не опустошённой, не попранной. Ад в его жизни был похож на мой. Вещей, которые можно забыть, было больше, чем тех, которые нужно помнить. И поскольку настоящее было чёрным и пустым ящиком, мы заполняли его собой, своими ласками, которые почти не были ласками, это были руки, что тянулись к твоим рёбрам, брали и лепили твою бедную израненную глину. Однажды вечером он подарил мне этот браслет. Маркус сделал его сам, взял нитки зелёной и синей ткани, вырванные неизвестно откуда, и сплёл их для меня. На внутренней стороне серебряным фломастером он написал наши имена, а затем слово НАВСЕГДА.
«Но навсегда не существует. Ничто не вечно, даже форма гор, не говоря уже о чувствах попавшего в плен мальчишки».
Я прикасаюсь к браслету, и это похоже на прикосновение к ране. Это больнее, чем настоящие раны.
Внезапно раздаётся звонок в дверь.
Кто бы это мог быть?
Друзей среди соседей у меня нет, я с ними почти не здороваюсь.
Когда на лестничной площадке вижу Софию в платье пудрово-голубого цвета и таком шикарном, что начинаю чувствовать себя, как никогда оборванкой, я не спрашиваю её, какого чёрта она хочет, просто потому, что в глубине моей души остались какие-то таинственные крохи хороших манер.
— Ты не готова? — спрашивает София, глядя на мои порванные на коленях джинсы, босые ноги, белую майку с рисунком руки скелета, показывающей средний палец.
— К чему?
— Чтобы пойти на свидание со мной и Вилли!
— Ни за что я не пойду на свидание с тобой и Вилли.
София входит в комнату, практически единственную в квартире, не считая своеобразного чулана, в котором стоит кровать, ванной, где можно коснуться обеих стен, если развести руки, игрушечной кухоньки и моей любимой части — крошечной террасы. Я хочу заполнить её растениями, и неважно, что там не будет места для меня. Когда настроение тушкой сползёт на пол, я высунусь и посмотрю на молодые листья, на зимние цветы, мне покажется, что я слышу их разговор, и мне станет легче. У меня всегда была эта тайная, никому не известная страсть к поэзии. Когда жизнь превращается в ад, необходимо ухватиться за что-то, что имеет цвет и аромат рая. В данный момент, к сожалению, у меня есть только одно суккулентное растение без единого лепестка. Это пурпурная ледебурия с пятнистыми листьями. Я называю её Шиллой, будто это друг.
(Прим. пер: Шилла от названия растения — Scilla socialis — лебедурия общественная).
София смотрит мне в лицо, а затем выдаёт спокойным тоном:
— Тебе грустно. Тем более, нужно выйти со мной и Вилли.
— Если бы мне было грустно, вы с Вилли сделали бы меня ещё грустнее, послушай меня. Иди одна.
— Но я не могу!
— Почему ты не можешь? У тебя что, паралич? Поторопись и иди, не думаю, что это так уж важно. Если у тебя хватило смелости дать ему понять, что он тебе нравится, то хватит смелости…
Она перебивает меня с угрюмым, почти капризным выражением лица.
— Я не заставляла его ничего понять, — заявляет София. — Вернее, я пыталась, но, по-моему, он ничего не понял.
— Он написал тебе записку, так ведь? Тогда, конечно, он понял.
— Это была… то есть, это полуправда. То есть он написал мне записку, но… ему нравишься ты. Только ты его пугаешь, и у него не хватило смелости отдать её тебе лично. Поэтому он передал мне и… умолял сказать тебе, чтобы ты пошла с ним на свидание.
Я всматриваюсь в неё, сощурив глаза до размера щели. Будь на её месте Вилли, я бы пресекла все его сентиментальности по отношению ко мне, не сказав ни слова. Просто посмотрела бы на него выразительнее, чем когда-либо, ведь я никогда и не смотрю на него, кроме тех случаев, когда приходится, потому как наступает моя очередь подавать ему этот отвратительный зелёный чай с куркумой, который он так любит.
— Чтобы ты точно представляла себе моё желание встречаться с Вилли, приведу пример: между ним и казнью через повешение на металлической проволоке, я предпочитаю проволоку.
— Прошу тебя! Если не пойдёшь, я тоже не смогу пойти! — заявляет София, немного в раздражении и немного умоляя. — Он пригласил меня, потому что… потому что ты его пугаешь, я же говорила. Короче, я его дуэнья.
— Я бы не стала встречаться с мужчиной, которому нужна дуэнья, даже если он меня пытал или платил мне золотом. Прости, София, но я не только не хочу романтики, но и не хочу нелепых свиданий без будущего. Я вообще ничего не хочу.
— Но, по крайней мере, дай хотя бы мне шанс! — упорствует она. — Я не против, если он и дальше будет тебя бояться, на самом деле пугай его как можно сильнее. Так, он поймёт, что ты ему не подходишь, и, возможно, обратит внимание на меня.
— Ни один мужчина не стоит таких рассуждений. Ты никогда не должна быть ничьим вторым выбором.
«Кто тебя не хочет, потому что предпочитает мордашку грёбаного ангела, не заслуживает даже мысли.
Даже если ты всё равно о нём думаешь.
И стихи всегда приводят тебя к нему.
И на каждом участке твоей кожи наклеено его имя и татуировки, похожие на его».
— Тебе легко говорить! — выпаливает София со всё более жалким выражением лица. — Ты красивая! Ты смотрелась в зеркало? Ты просто вылитая Джессика Альба!
Мне хочется её спросить, что она знает о том, каково это — носить тело, которое не остаётся незамеченным, даже если ты его прячешь, унижаешь и даже пытаешься убить. Мне не хотелось быть такой, я не просила об этом. Я хочу быть похожей на посредственные обои, которые, остаются там, куда бы ты их ни наклеил, и никто их не замечает, никто их не хочет, никто не пытается к ним прикоснуться.
Я собираюсь сказать ей об этом, но меня удерживает её печаль. Никогда не видела у неё такого выражения лица. Обычно София улыбается так, как, по моим представлениям, улыбаются подсолнухи на рассвете. Эта грусть не поза. Словно София тоже большую часть времени ходила с маской на лице, а теперь сняла её. Теперь глаза девушки похожи на маленькие мокрые зеркала. Она ничего не знает обо мне, о моих секретах, о моей боли, которую я защищаю кулаками, но и я ничего не знаю о ней, о её боли, которую она защищает улыбкой. И тогда, возможно, стоит сделать что-то глупое, то, что в обычных условиях я не стала бы делать даже под угрозой смерти.