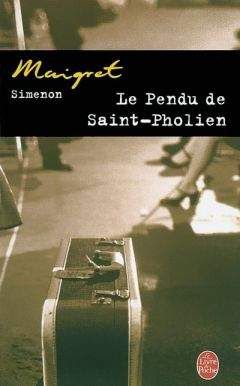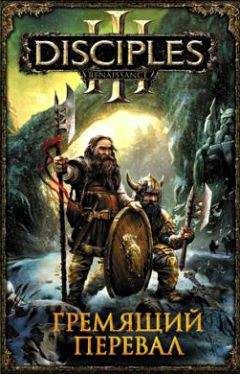Огонь. Она не твоя.... (СИ) - Костадинова Весела
— А если я… снова… вдруг… описаюсь?
Альбина даже не улыбнулась — просто спокойно, как будто обсуждали завтрак:
— Тогда утром мы вместе пойдём в душ, и постираем бельё. Разве это страшно, кроха?
Девочка устало закрыла глаза, прижимая грязнущую белку.
— Насть, — тихо позвала Альбина. — Давай твою страшилу постираем? Она очень уж грязная….
Девочка с тоской вздохнула.
— Знаю, — Альбина прилегла рядом с ней, как была в лифчике и брюках, — ты любишь ее. Я сейчас поставлю на быструю стирку и сушку и утром она тебя будет снова ждать. После стирки принесу сюда, чтобы до утра досохла… ладно?
Настя молча кивнула. Ручка ослабла, позволяя Альбине осторожно забрать игрушку. В эту секунду между ними снова возникла та самая хрупкая нить доверия — не словесная, не объяснимая, а настоящая.
Альбина осторожно приподнялась с кровати, словно боялась разбудить не только девочку, но и то что только что зародилось между ними. В груди с непривычной силой пульсировало чувство, которому она не могла найти имени — нечто странное, дикое, обжигающее. Оно было похоже и на счастье, и на боль одновременно. На нестерпимое желание лечь обратно, прижать Настю к себе, укутать собой, защитить, не отпуская ни на миг. Это было абсолютно чуждо её прежнему «я» — холодному, рациональному, привыкшему держать дистанцию даже с самой собой. Это чувство шло вразрез с её характером, с логикой, с прошлым. Оно пугало своей силой.
Она уже почти встала, отрывая себя от кровати, когда вдруг за спиной услышала тихое:
— Тётя…
Альбина обернулась и сразу села обратно. Девочка смотрела на неё полусонными глазами, в которых дрожала робкая неуверенность.
— Да, малыш?
— А ты… завтра… будешь ругаться?
Вопрос прозвучал так просто и так больно, что Альбина на мгновение потеряла дар речи. Потом покачала головой и мягко ответила:
— Нет. Не буду. — Она взяла маленькую ладошку в свою и чуть сжала. — Только ты пообещай мне, что больше никогда так не сделаешь. Никогда, слышишь? Не сбежишь.
Настя кивнула, глядя в потолок, а потом еле слышно прошептала:
— Обещаю… Прости меня…
Альбина закусила губу, чтобы не разрыдаться прямо сейчас. Погладила девочку по горячему лбу и спросила почти шёпотом:
— Ты… ты скучаешь по бабушке, солнышко?
Настя слегка пожала плечами, будто сама не была уверена в ответе, и тихо призналась:
— Немного… Бабушка… она добрая. Она… меня… любит. Я думаю.
— Любит, — кивнула Альбина, почувствовав, как внутри всё сжалось. — Конечно, любит.
Она замолчала на секунду, с трудом подбирая слова, не зная, куда приведёт эта тропинка.
— Если хочешь… — сказала она наконец, неуверенно, ломая себя изнутри, — я могу… привезти её. К нам. Чтобы ты её видела, чтобы она была рядом.
— Ты… — карие глаза наполнились слезами, — ты хочешь меня ей отдать?
Альбина замерла. Вопрос был прямым и точным, вопрос, которые еще несколько дней перед ней даже не стоял.
— Насть…. — она не могла подобрать слова. — Я хочу… чтобы ты… была с теми, кого любишь. Понимаешь? Твоя бабушка просила меня помочь вам быть вместе… и я…. я сделаю для этого все, что могу… малыш…
— А если…. — голос Насти был едва слышим, — если я хочу быть с тобой?
Альбина с трудом вдохнула. Слова девочки ударили в самое сердце, как молоток — точно в тонкую трещину.
— Зачем? — она говорила почти беззвучно. — Настя, я ведь не мама. Я… я холодная. Строгая. Я не знаю, как быть с тобой. Я не умею… Я…
Она запнулась, потому что дальше были только разрывы, только страх и невозможность.
— Я тебе мешаю, да? — прошептала девочка, опуская голову. — Я мешаю тебе жить…
— Нет. Нет… — Альбина быстро наклонилась к ней, обхватила лицо ладонями, чувствуя, как горят глаза. — Милая…. Ты ничего не портишь. Ты не мешаешь. Просто… я сама не понимаю, как это вышло. Почему ты… почему ты хочешь быть со мной?..
Настя не ответила сразу. Вместо этого она обняла её за руку, крепко, изо всех сил, и прижалась щекой к её ладони — как к чему-то единственно родному и настоящему.
— Потому что… с тобой хорошо, — выдохнула Настя, и голос её дрожал, как хрупкое стекло, вот-вот готовое треснуть, но при этом звучал с удивительной для ребёнка уверенностью, будто в этом признании заключалась последняя надежда.
— Тепло, — повторила она тише, уткнувшись щекой в ладонь Альбины.
Она замолчала на мгновение, словно собиралась с силами, будто каждое следующее слово давалось ей с боем — не из-за страха, а потому что в ней, маленькой, не было ещё словарного запаса, способного вместить весь тот хаос чувств, что сейчас клокотал внутри. Но она пыталась — изо всех сил.
— Я знаю… знаю, что могу быть плохой… — прошептала она, и в этих словах прозвучало не столько раскаяние, сколько тяжёлое, почти взрослое осознание своей уязвимости. — Но я… я правда постараюсь. Буду тихой… честно. Буду слушаться. Не буду мешать… не буду плакать, даже если будет страшно… я… не буду… ну… писаться, — она замялась, покраснела, но всё же договорила, с трудом преодолевая стыд и страх быть отвергнутой. — Постараюсь. Очень. Только… только не отдавай меня… пожалуйста.
Эти последние слова вылетели уже почти в рыдании, и не потому, что она ожидала немедленного отказа, а потому что вложила в них всё: страх быть ненужной, покинутой, забытым чемоданом на чужом вокзале жизни.
Альбина не могла сразу ответить. Она не могла ни понять, ни объяснить себе, что именно сейчас произошло, — потому что логике происходящее не поддавалось. Но она всей кожей, каждой клеткой тела ощущала, что девочка впервые открылась ей — робко, неловко, как умеет только ребёнок, ещё не испорченный искусственными фразами. Открылась не потому, что доверяет до конца — нет, до этого было ещё далеко, — а потому, что внутри накопилось слишком много страха, одиночества, желания быть рядом с кем-то, кто не прогонит. И Настя не умела, не могла иначе рассказать о своей боли, не знала, как объяснить взрослой женщине, что для неё это не просто дом и кровать, а единственный остров в море непредсказуемого мира.
— Я не умею с детьми… Насть… — призналась Альбина. — Я кричу…
— Кричи… — кивнула девочка.
— Я могу быть жестокой и резкой…
И снова едва заметный кивок, который показал, что Настя и это знает.
Альбина прижалась своим лбом ко лбу племянницы.
— Хочешь чего-нибудь? — прошептала она, отстранившись ровно на сантиметр, заглядывая в распахнутые, блестящие от лихорадки глаза.
Настя медленно покачала головой, не проронив ни слова. Она словно говорила: мне не нужно ничего, только будь рядом.
— Почитать тебе… — Альбина на миг оживилась, но тут же замолчала, споткнувшись на полуслове. В голове прокрутилась мысленная инвентаризация: детских книг в доме не было. Ни одной. Только отчёты, статьи, юридическая макулатура. — Или, может, поставим мультики? Посмотрим вместе. Пока ты не уснёшь?
Вместо ответа Настя просто обняла её за руку и прижалась всем телом, как котёнок, которому наконец позволили быть тёплым, нужным, не лишним. Альбина на миг замерла — и потом не стала больше говорить. Только положила свободную ладонь на узкую детскую спинку, укрытую одеялом. Так они и лежали, укутанная девочка, вместо грязной, валяющейся теперь на полу белки, обнимающая руку Альбины, и женщина, так и не переодевшаяся, не умывшаяся. Медленно садилось солнце, погружая комнату в спасительный, теплый летний полумрак.
27
Ночью Альбина проснулась от того, что Настя начала стонать и биться, крутилась волчком на смятых, чуть влажных от детского пота простынях. Сначала девочка тихо постанывала — коротко, сдавленно, как от боли или липкого, пугающего дискомфорта. Казалось, всё её тело сжалось в попытке спрятаться, исчезнуть, уйти от чего-то, что только ей было видно в этом внутреннем кошмаре. А затем, внезапно, будто вырвавшись из чьих-то рук, Настя резко села. Её глаза распахнулись, но сознания в них не угадывалось. Она точно спала с открытыми глазами.