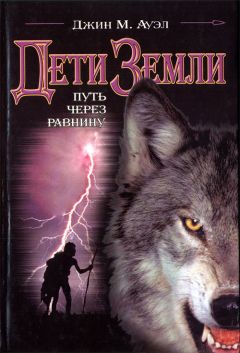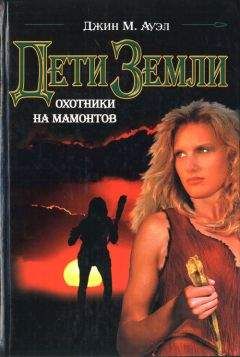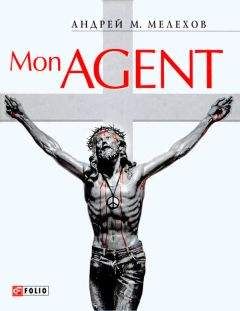Твое имя - И Эстер
Наш первый урок плавания был последним. Она отвезла меня к самому большому озеру в округе. Было уже за полночь. Она стояла на берегу с пыхтящим у ног самоваром и указывала на озеро. „Залезай туда“, – рявкнула она. Она не объяснила, как я должен двигать руками или ногами. Но я обещал слушаться ее во всем. Поэтому я зашел в озеро.
Будучи по плечи в воде, я обернулся и стал ждать дальнейших указаний. „И?!“ – крикнула моя учительница с берега. Я бросился назад. Я открыл глаза – вода была черной, как чернила, под безлунным небом. Я ждал, когда же обрету способность плавать. Но я почувствовал, что начинаю тонуть. Как странно, подумал я, что все это время я мог умереть. И так ждал того момента, когда коснусь земли и начну там разлагаться. Но и этот момент тоже не наступал. С ужасом я осознал, что завис, окруженный водой со всех сторон. Одиночество было настолько мучительным, что вызвало у меня первый приступ боли. Я стал загребать воду у себя над головой, желая, чтобы что-нибудь, хоть что-нибудь изменилось.
И это случилось. Мое тело постигло свою идеальную хореографию существования. Я никогда даже не задумывался о возможности такого движения, но в тот момент я был уверен, что ждал этого всю свою жизнь. Это движение было не моим. Не я создавал его, а оно использовало меня, чтобы родиться на свет. Это произошло со мной насильно. Мне был дан второй шанс в жизни, чтобы мчаться по ее просторам со свежим знанием о том, что существует такое расположение моего тела в пространстве, при котором я каждой своей здоровой клеткой смог познать истину. Как могло это пройти бесследно? И не изменить все, даже лицо, которое я презирал? Однако ценой, которую мне пришлось за это заплатить, был тот ошеломляющий факт, что я никогда не смог бы воссоздать это движение на суше, в гуще жизни.
Я не плыл. Я понял, что моя учительница не учила плаванию. Даже сейчас я не могу сказать, чему именно она учит. У меня не было возможности спросить ее. Когда я выполз обратно на берег, ее уже не было…»
После того как Маэхва закончила читать, она продолжала смотреть на письмо, завороженная черными буквами, как будто это была оптическая иллюзия. Глаза мистера Сугука были закрыты. Я подумала, не спит ли он. Мун опустил голову, страдая от каждого слова, как от маленького наказания.
Мои руки бесконтрольно дрожали. Значит, Мун тоже фантазировал об этом – танец, который не поддается описанию, движение из моих «Мунных» грез. Я писала об этом в течение нескольких месяцев, прокладывая милю за милей в туннеле своего воображения. И после мне все же удалось проникнуть в него, создав поток тайных знаний между нами. Никто не знал его так, как я. Это не было нашим сотворчеством, это был тайный сговор.
Однако высвободить мою радость из мокрых нитей моего страдания было практически невыполнимой задачей. Мун лаконично и поэтично выразил то, что связывало нас вместе, но в то же время он видел во мне совершенного незнакомого человека. Письмо являлось окончательным, неоспоримым манифестом нашей общей фантазии – и все же оно было не для меня. На самом деле, чтобы Мун написал мне такое письмо, нужно было построить с нуля совершенно другой мир. Ирония была жестокой. Доказательство нашей связи хранилось между строк его письма, словно внутри стеклянной коробки: ничто не скрывало его от моего взгляда, но я не могла прикоснуться к нему, я не могла считать его своим.
Мне нужно было с кем-то поговорить. Но у Сиделки было мало свободного времени. Они с мистером Гоуном все еще были в столовой. Правда теперь она помогала ему разбирать коллекцию семейных фотографий, разбросанных по столу. Заметив меня в дверях, она помахала мне рукой и объяснила, что подарила мистеру Гоуну фотоальбом, чтобы он наполнил его любимыми воспоминаниями. Там также были ножницы на случай, если он захочет «вычеркнуть» из своей памяти любого, кто причинил ему боль, которую нельзя простить.
У старика была на удивление четкая система. Он ставил две фотографии друг против друга и долго рассматривал их, после чего брал одну и с театральным отвращением швырял ее на землю. Затем наступал новый раунд выбора. Пол вокруг него был усеян фотографиями, в то время как на столе оставалась лишь горстка, которая была меньше, чем хватило бы для абсолютного заполнения альбома.
Я смотрела на два снимка, которые прямо сейчас участвовали в поединке. На первом был мистер Гоун на обувной фабрике, держащий гигантский баннер с китайскими иероглифами. Я не заметила никакой ручной работы. Возможно, ему пришлось пойти на определенные компромиссы в своей карьере. На втором была молодая женщина, которая обнимала мистера Гоуна. Они стояли под решеткой, увешанной тыквами. Я была шокирована, когда узнала в этой молодой женщине Сиделку. Она возвышалась над мистером Гоуном на черных каблуках. Он был полным и с красным лицом. Вместе они смотрелись беззаботно, и создавалось впечатление, что они соизволили на несколько минут выйти из своего влажного логова для занятий любовью.
Сиделка заметила выражение моего лица.
– Не печалься обо мне, – сказала она. – Я как скрытая травма. Возможно, он и забыл меня, но он никогда не вытеснит меня из своего сознания. Он любит меня больше, чем думает…
Одним быстрым движением мистер Гоун отправил вторую фотографию в полет на пол. Сиделка наклонилась, чтобы поднять ее, и положила обратно на стол, якобы возвращая на рассмотрение мистеру Гоуну.
«Вот и мы, – мрачно подумала я, – Сиделка и я, неутомимо следуем по всему дому за объектами привязанности, которым до нас нет дела…» Внезапно разочарование, копившееся в моем сердце с момента приезда, выплеснулось наружу в едином порыве прозрения, и его место заняла сияющая надежда. Возможно, Мун, как и мистер Гоун, тоже не помнил человека, которого любил больше всего на свете.
Этим человеком могла быть я, согласившаяся занять место среди безликой орды поклонников Муна, не в силах вынести боль от его амнезии. Может быть, именно поэтому мне до дрожи не нравилось называть себя фанаткой? Если так, то истинным источником моей боли было не то, что Мун никогда не сможет узнать меня, а то, что он забыл ту, кого уже когда-то знал. Я просто должна напомнить ему. Но как? Как я могу напомнить ему о прошлом, которое даже я, при всей своей убежденности, не могу сформулировать?
Мистер Гоун отправил еще одну жертву на пол. На снимке он стоял на парковке, такой огромной, что она выходила за пределы кадра. Автостоянка, должно быть, служила местом, которое одновременно посещали тысячи людей, вроде футбольной арены или мегацеркви. Но в поле зрения не было ни одной машины. Мистер Гоун стоял спиной к камере, в которую глядел через плечо. Бедра были развернуты, будто бы в тот момент он принимал решение – вернуться или уйти навсегда.
11. Ремонтник
После концерта Т/И становится тихой и невозмутимо спокойной. У нее появляется новое хобби – разбирать старые часы. Она находит их на антикварных рынках по всему Сеулу. Она строго следит за тем, чтобы за один раз приносить домой только одни часы. Однажды она совершила ошибку – принесла сразу двое, и едва заметное несоответствие между их тиканьем чуть не свело ее с ума.
Вернувшись домой, она ходит по квартире с часами, сжимая их в руках, словно маленькую бомбу. Сидя за своим столом, она кропотливо разбирает их, щурясь через лупу. Она раскладывает их крошечные металлические детали аккуратными рядами на своем столе. Т/И нравится момент, когда после удаления основной зубовидной шестеренки часы перестают тикать. Вокруг нее воцаряется аномальная тишина. Когда она видит свои руки, неподвижно лежащие на столе, она почти верит, что они принадлежат фотографии, – что она выскользнула из времени. Она не может представить, что у нее когда-нибудь снова будет цель.
Дни проходят без еды и сна. Вот Т/И лежит на полу, окруженная сотнями развороченных часов. В комнате темно: должно быть, уже вечер. Внезапно дверь открывается, и кто-то входит в квартиру. Это мужчина с ящиком инструментов. Т/И слишком слаба, чтобы что-то сделать, поэтому она наблюдает, как мужчина, не говоря ни слова, переступает через нее и начинает собирать одни часы за другими. Комната медленно наполняется всевозможным тиканьем. Шум становится невыносимым. Тиканье становится настолько мощным, настолько разнообразным – там десятки часов с кукушками, – что создает единый шум.