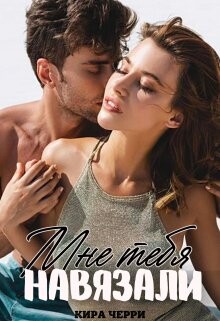В твоих глазах (ЛП) - Джусти Амабиле
Глава 2
Рядом с кроватью зазвенел будильник, прозвенел ещё раз и попытался в последний раз, прежде чем Байрон протянул руку и стукнул по бедолаге сверху. Лёжа на животе и уткнувшись лицом в подушку, Байрон пробормотал ругательство в наволочку. Голова разрывалась. Если, конечно, это была голова, а не камень, который кто-то прилепил ему накануне вечером.
Та же рука, что потянулась к будильнику, позволила себе ещё одну попытку, решив нащупать затылок с вибрирующей нерешительностью сачка, который не хочет ловить бабочку и мелькает в воздухе. Наконец Байрон коснулся головы и, кажется, ощутил волосы.
«Окей, не камень.
Но весит столько же».
Он помассировал кожу головы, пытаясь вспомнить, что произошло: клуб, музыка, дым, почти рассвет и тягучий сон. Он не спал нормально уже несколько дней. И отдал бы всё что угодно, лишь бы позволить себе ещё хотя бы час.
«Кто мне запрещает?»
В мыслях пронеслось смутное чувство тревоги. Что он должен вспомнить?
Осознание поразило его как молния. Это случилось, когда он, полуоткрыв один глаз, заметил на полу будильник; тот был похож на большого обиженного жука. Его вид почти вызвал у Байрона умиление. Мужчина перегнулся через матрас, буквально ползком, чтобы не сильно трясти осколки внутри черепа, и поставил будильник на место на прикроватной тумбочке. В одно мгновение Байрон вспомнил, что будильник у него с самого детства. Он брал часы с собой при каждом переезде, при каждой перемене. Этот пузатый будильник красного цвета не заслуживал такого радикального обращения. Кроме того, это был подарок матери, чтобы Байрон не опаздывал в школу.
В школу?
Он вскочил на ноги так быстро, что отшатнулся на середину комнаты.
Взглянул на своё отражение в зеркале и время на будильнике. Было почти девять.
«Почему я поставил его на так поздно?
Может, потому что вернулся на рассвете и функционировал меньше, чем перерезанный провод…»
Лекция начинается в девять, фактически она уже началась. Времени побриться или переодеться не было.
Пришлось прибегнуть к экстренному средству. Байрон спустился с мансарды, где располагалась спальня, засунул голову под кран с холодной струёй, и выпил несколько больших глотков воды, а затем на ходу сварил кофе. Слишком быстро: в спешке он подсластил напиток солью, а когда пил, чашка выпала у него из рук. Из его рта (довольно красивого рта, несмотря на этот далеко не идиллический момент), вырвался такой поток бранных слов, что остаётся только удивляться, как преподаватель поэзии, обычно привыкший разжёвывать возвышенные слова, мог знать такую непристойную лексику, что застыдилась бы и шпана из гетто.
Байрон выбежал из дома в той же одежде, что и накануне вечером, с влажными волосами, неухоженной бородой, обожжённым языком от отвратительного солёного кофе и уверенностью, что выглядит совсем не как университетский профессор. Мотоцикл был у механика, машину он продал новому владельцу, поэтому сел на велосипед и поблагодарил себя за то, что решил купить квартиру недалеко от кампуса. Через несколько энергичных взмахов педалей он доберётся до места назначения, еле-еле душа в теле, но всё же успеет, чтобы не сильно превысить пресловутую академическую четверть часа.
К счастью, у него в кабинете остался строгий блейзер на все случаи жизни и запасные очки. Это была не просто привычка ботаника: близорукость у него с детства. Добравшись до аудитории, Байрон обнаружил, что всё ещё носит серьгу. Быстро снял её и положил в карман. Он вошёл в аудиторию, замедлив шаг, чтобы не выглядеть полудурком с затруднённым дыханием и в наспех собранном костюме.
В аудитории Байрон почувствовал на себе обычный шквал взглядов первого учебного дня. Кто-нибудь другой в похожей ситуации мог испытать что-то между неловкостью (из-за малочисленности сильного пола), и озорной благодарностью мужчины, осознающего, что восемьдесят процентов этих взглядов исходили от женщин, которые были готовы его одаривать. Он не принадлежал ни к одной из этих категорий. Байрон не испытывал ни страха, ни возбуждения.
Он был в предвкушении, как и каждый год, но без всякого сексуального подтекста. Его приводило в эйфорию любопытство узнать, сколько из этих студентов продержаться до конца, скольким он сможет донести смысл своей страсти к словам. Байрон ещё слишком молод, чтобы испытывать скуку, свойственную многим преподавателям со стажем, которые встречали начало года, как свергнутый король встречает виселицу. Однако он был достаточно опытен, чтобы понимать, — некоторые из этих студентов не смогут смириться с открытием, что такой интересный профессор с именем и видом проклятого поэта на самом деле многого требует от своих студентов.
Когда речь зашла о его имени, сидящая в первом ряду студентка, красивая и дерзкая, с ресницами, слишком длинными, чтобы быть настоящими, тут же обратилась к нему за разъяснениями. Так происходило практически каждый год.
— Байрон Лорд — это ваше настоящее имя? Довольно странно…
Он улыбнулся, скрестив ноги, чтобы скрыть пятна на брюках. Существовал риск, что кто-нибудь спросит его о значении этих пятен. Это был первый год, когда наряду с необычным именем он носил ещё и джинсы, похожие на полотно посредственного художника-абстракциониста.
— Это моё настоящее имя, — объяснил он, как обычно. — Моя мать англичанка. Она была ироничной женщиной и поклонницей поэтов XIX века. Поэтому развлекалась тем, что подбирала к фамилии моего отца имя, равное имени древнего поэта. Остальное сделала судьба. Поэзия стала для меня всем, или почти всем. — Он улыбнулся, нарочито соблазнительной улыбкой. Кто знает, может так, получится отвлечь внимание публики от этих невыносимых джинсов, испачканных кофе. — А что для вас поэзия? Я имею в виду не конкретного поэта, а поэзию в целом. Для вас?
Он посмотрел на красивую девушку с длинными ресницами, которая отреагировала так, словно ей в глаза всадили лучи дальних фар. Смущённая, ослеплённая, зачарованная.
— Я не знаю, — ответила она. Затем снова моргнула. — Надеюсь, вы сможете меня понять, профессор. Я так хочу впитывать всё с ваших губ.
«Начинаем хорошо. Надо не забыть запирать дверь в кабинет, чтобы мисс Накладные Ресницы не растянулась голышом на моём столе».
Не то чтобы его отталкивала мысль о красивой женщине, растянутой голой везде, где только можно, но после того, что случилось чуть больше года назад, он был обязан обратить на это некоторое внимание. После того злополучного эпизода Байрон старался не усложнять свою жизнь, которая, несмотря на показуху, и так была достаточно запутанной, без добавления последствий перепихона со студенткой.
Поэтому он задал тот же вопрос парню, одному из немногих в аудитории, чтобы не создалось впечатление, что его интересуют только ответы девчонок с длинными ногами и словесные подтексты.
Студент ответил откровенно:
— Для меня это способ подцепить девушку. Даже если все они современные штучки, на пару стихов всегда западают. Скажем так, для меня поэзия это оружие.
Байрон несколько мгновений молчал, словно взвешивая ценность этого заявления, затем ухмыльнулся и возразил:
— Девушек нужно завоёвывать, а не стараться подцепить. И тогда, говоря словами Глории Фуэртес, испанской поэтессы: Поэзия не должна быть оружием, она должна быть объятием, изобретением, открывающим в других то, что происходит внутри. Открытие, дыхание, дополнение, трепет.
— Буду использовать поэзию, чтобы обнимать и узнавать красивых девушек, — повторил упрямый молодой человек.
— Боюсь, не с этого курса, — язвительно ответил Байрон. — Сомневаюсь, что после столь возвышенного заявления о намерениях вы добьётесь большого успеха.
По аудитории разнёсся громкий смех, и смущённый студент замолчал, бросив на Байрона раздражённый взгляд.
«Я знаю, что ты думаешь, мой мальчик. Считаешь, что я хорошо проповедаю, а поступаю плохо. Ты задаёшься вопросом, какое право имею читать тебе нотацию, когда очевидно, что сам развлекаюсь со своими студентками в горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскости, используя Роберта Фроста в качестве ловушки. Если я скажу тебе, что никогда не заставлял ни одну женщину попадать в сеть из зеркал, ты не поверишь».