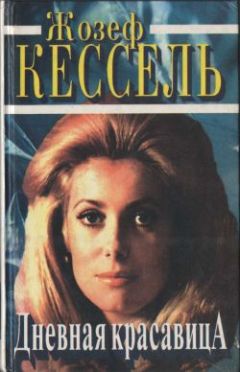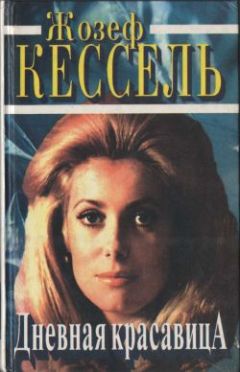Рон Фауст - Когда она была плохой
Я прибыл в Аспен утром восемнадцатого декабря. Был разгар сезона, город переполнен, цены зверские — грабеж туристов перешел все допустимые цивилизованные рамки. Я вынужден был продемонстрировать свой буйный нрав уже в вестибюле отеля, чтобы заставить портье выполнить мой заказ. Фрэнк Митчелл был способен на слепую, безумную ярость, когда ему перечили. Он обладал обостренным чувством справедливости, если дело касалось его персоны, но это никак не распространялось на других. Зато каким же он становился милым, прямо-таки душкой, если ему требовалось что-то получить от вас.
Я дал щедрые чаевые коридорному, вы же понимаете? Ты прояви заботу обо мне, а я позабочусь о тебе. Я спрятал револьвер и патроны под матрацем. Четыре унции кокаина, упакованные в пергаментный мешочек, находились на дне банки с противогрибковой присыпкой для ног. Я разместил это в ванной комнате вместе с бритвенными принадлежностями и прочими мелочами. Полицейского, натасканного на наркотики, таким образом, конечно же, не проведешь, но для начала сойдет.
У меня возникло ощущение, что в глаза попал песок. Я вынул контактные линзы, промыл их под краном, плеснул в стакан вина и подошел к окну. Я увидел лыжников, скатывающихся по склону горы.
Фрэнк Митчелл, какого черты ты здесь делаешь?
Я намерен свести счеты с этой мерзавкой и сукой.
Каким образом?
Пока что не знаю.
Поехали лучше домой.
Туда дороги нет.
Давай забудем обо всем.
Забудем? Неужто ты способен забыть, как она оставила тебя на рифе? Как пыталась отравить? Забыть то, что ты передумал и через что прошел?
Ах, Митч, грех затаивать злобу, было и быльем поросло, сколько воды утекло, кто старое помянет, прости и забудь, Бог рассудит, подставь другую щеку, блаженны кроткие, ненависть губит ненавидящего, не опускайся до уровня врага…
Я готов испепелить ее!
Митч, ты меня немного пугаешь.
Я допил вино и отправился на прогулку. Я тепло оделся, чтобы надежно защитить свою жидкую флоридскую кровь, и прогуливался не спеша, щадя сердце и легкие, привыкшие к высоте уровня моря. Было сухо и холодно. В окнах и витринах красовались венки и цветные гирлянды, из громкоговорителей неслась громкая, несуразная музыка. Лыжники в пластиковых ботинках Франкенштейна передвигались по склонам вверх и вниз.
Я ходил по боковым улочкам и аллее для прогулок. Аспен относится к числу таких полуискусственных селений, как Ла-Джолла, Кармел, Санта-Фе, Палм-Бич, облюбованных богатыми, в которых ощущается некоторое присутствие европейского духа. Здесь жестко правили бал деньги и социальное положение, хотя декларировалось, что это не имеет никакого значения. Здесь все было призвано ласкать глаз и успокаивать и потому казалось лишенным плоти и жизни. Аспен был откровенно, комично вульгарен, как вульгарна и комична состарившаяся проститутка из борделя, которая пытается одеваться и вести себя на манер светской дамы.
Я зашел выпить пива в три бара. Разговоры, которые до меня долетали, касались лыж, секса, наркотиков, иногда говорили на психомистические темы.
Поле ленча я взял напрокат автомашину и махнул в сторону Гленвуд-Спринча чтобы изучить все боковые дороги. Многие большие дома скрывались за деревьями; большинство из них, из природного камня и дерева, не бросались в глаза, и лишь солнечный блик на стекле либо противная природе симметрия выдавали их присутствие ненаблюдательному глазу. Были и броские сооружения эксцентрической конструкции из стекла и стали, из стекла и бетона — дома, похожие на летающие блюдца, напоминающие оранжереи, силосные башни, грибы и фантастических насекомых на ходулях.
Шанталь д'Оберон была владелицей обширных апартаментов в четырехэтажном Г-образном кондоминиуме неподалеку от лыжной базы Сноумэс. Он носил название «Вилла «Парадисо»». Здесь находились олимпийских размеров плавательный бассейн, теннисные корты для игры на площадке у стенки, сауна и так называемый «центр гостеприимства». Апартаменты Шанталь располагались на верхнем этаже западной — наилучшей части совладения. Как и у других, балкон имел форму и размеры крышки большого рояля. Шанталь приобрела кондоминиум за двести тридцать тысяч долларов четыре года назад. Сейчас он стоил полмиллиона, и цена его продолжала быстро расти. По сведениям «Скорпиона», ее собственность в Кармеле оценивалась суммой более чем в миллион долларов. У нее был также дом на итальянской Ривьере.
Почему я верил в то, что смогу обмануть ее, заставить ее клюнуть на презренный металл? Потому что я знал ее жадность. Жадность была ее пороком, ее слабостью. Жадным незнакомо слово «довольно». Чем больше они имеют, тем больше хотят. Попробуйте жадному, будь то мужчина или женщина, сказать, чтобы он остановился на одном миллионе, двух миллионах, ста миллионах долларов. Это то же, что посоветовать чревоугоднику остановиться после одной порции десерта, алкоголику — после одной или двух рюмок, а сладострастнику — после одного оргазма. Они ни за что не остановятся — они просто не смогут.
Так, стало быть, что мы собираемся предпринять, Митч?
Мы собираемся распять ее.
Глава двадцать четвертая
Это был громадный, просторный зал с высокими потолками, приблизительно тех же габаритов и пропорций, что и процветающая пригородная церковь; в нем находилось около полусотни людей, составляющих так называемый цвет общества, людей, многих из которых ты презираешь, когда видишь их в телевизионном шоу. А в противоположном конце зала, возле камина размером в комнату моего мотеля, стояла Шанталь д'Оберон.
— Обаятельнейшая женщина! — произнес мой хозяин. — Америке понадобится еще много столетий, чтобы породить женщину, подобную Шанталь. Она продукт тысячелетней генетической эволюции и культуры.
— Из породы снобов?
— Что? О нет, ничего похожего… Просто Шанталь обладает величественностью, аристократическим лоском, я бы даже сказал — благородной небрежностью. Ее предки правили целое тысячелетие. Вы можете это понять, Митч? Вы только подумайте: ее предки вели войны крестоносцев, участвовали в битве при Агинкорте, даже возводили на престол папу, когда церковная столица находилась в Авиньоне.
Митч ничего не знал об этих деталях. Для него история началась с того момента, когда он сделал свой первый вдох.
— Вы только посмотрите на нее, — продолжал Даррил Румбау. — То, что вы видите, это никакой не снобизм. Это страсть, это почти сумасшедшая гордость.
Я посмотрел. Она была красива семь лет назад, но Боже мой! — сейчас она была прекрасна, эта холодна ведьма, рядом с которой любая другая женщина в зале казалась второразрядной простушкой. Нас разделяли тридцать ярдов, и тем не менее, когда наши взгляды на короткое мгновение пересеклись, я почувствовал, как во мне что-то поднимается и начинает жечь, и то была отнюдь не ненависть, как я решил первоначально, а нечто совсем противоположное — любовь, превратившаяся позже в яд и сжигавшая вместе с ядом настоящим мое нутро последние семь лет.