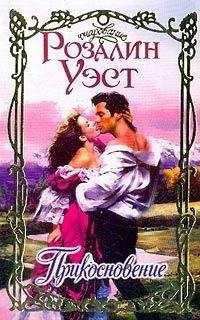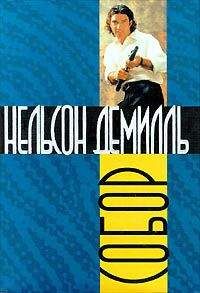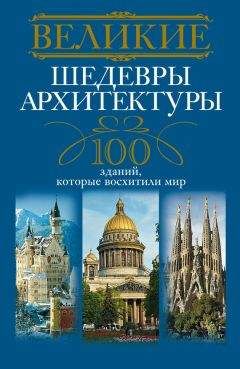Уильям Голдмен - Дело в том, что...
Насколько Эймос ненавидел свою тещу, настолько же Лайла невзлюбила его психоаналитика – доктора Маркса. Хотя Эймос считал доктора самым невозможным объектом для ненависти, тем не менее Лайла выбрала именно его. Эймос потом осознал, что эта ненависть была вызвана его собственной неосторожностью, но было уже поздно. Когда он познакомился с доктором Марксом и начал дневные сеансы, по неведомой для себя причине потом, оказавшись дома, он начинал рассказывать Лайле все, что считал интересным из того, что происходило на этих сеансах. Доктор Маркс – маленький человечек сорока с лишним лет, пробившийся в Нью-Йоркский университет, в поте лица летом трудясь в Кэтскиллз Гроссингере. У него было два хобби, которые он непрерывно совершенствовал, – анекдоты, смешные и поучительные случаи из жизни известных людей на иностранных акцентах. Он знал все шутки и анекдоты на свете и мог говорить с неподражаемым акцентом идиш, или немецким, или итальянским. У него была ужасная привычка – заканчивать большинство своих сеансов какой-нибудь шутливой притчей. Вначале Эймос из вежливости считал своей обязанностью хохотать над прибаутками Маркса, хотелось ему этого или нет. Однажды мартовским утром, на третьем месяце лечения, Эймос восстал и перебил доктора на середине очередной байки.
– Я уже слышал эту историю, она мне опротивела.
– Прогресс налицо, – ответил доктор, – слава богу. Очутившись дома, Эймос рассказал Лайле об этом, но она почему-то никак не реагировала.
Ее отношение к доктору он обнаружил в апреле. В этот день утром в конце сеанса он внезапно закрыл глаза и произнес:
– Я теряю здесь время.
– Нет, пока ты мне платишь деньги.
– Почему бы тебе не назвать просто причину моего пребывания здесь? Скажи, что со мной, это сбережет наше время.
– Ты действительно этого хочешь?
Эймос кивнул.
– Что ж, сам напросился. Фрейд сказал бы так: «Zie haben der freulingerlungen», – изрек он с немецким акцентом.
– Что это означает?
– Тебя затрахали.
– Почему это? Объясни!
– Послушай, войди в мое положение. Предположим, я тебе скажу. Предположим, ты вылечишься. Предположим, я вылечу всех своих шизиков. А что будут есть мои дети, Эймос? На что моя жена купит себе второй парик? Я желал бы тебе сказать, но ты подумай хорошенько, стоит ли. Только не психуй, мой мальчик. Голову даю на отсечение, что на свете не найдется ни одного нормального артиста.
– Он назвал меня артистом, как тебе это? – позже похвастался Эймос жене.
Она промолчала.
Эймос продолжал, пребывая в радостном возбуждении:
– Он не назвал меня наемным писакой или дохлым песенником. Артист. Я – артист. Он так меня назвал.
– Кажется, он назвал тебя ненормальным, – охладила его пыл Лайла.
– Да нет же, детка, ты неправильно сделала акцент. Он сказал, что я…
– Он сказал, что ты – не нормален. В словаре это слово означает, что ты неестествен. Он назвал тебя противоестественным, Эймос. И какого дьявола ты так радостно улыбаешься по этому поводу?
– Но, детка…
– Он мог так же непринужденно назвать тебя маньяком или заменить это слово на гомосексуалиста.
– Лайла, прошу тебя…
– От всего этого меня просто тошнит! Боже мой, как подумаю, сколько денег ты отдал этому аферисту….
– Аферисту?
– Ну, шарлатану. Называй его как хочешь, он просто тебя дурачит. Я давно это вижу. Каждый раз, когда ты от него приходишь, я это ясно вижу и мне хочется заплакать.
– Лайла, что с тобой, сейчас ты еще спросишь: «Скажи, что ты ему рассказываешь обо мне?»
– Да, именно: что ты ему рассказываешь обо мне? Ничего хорошего, верно? Насколько мне ясно, он, вероятно, считает меня потаскухой, которая просто разрушает твою душу артиста.
– Откуда ты это все взяла?
– Если бы ты меня любил, тебе бы не нужен был какой-то шарлатан, настраивающий тебя против своей жены.
– И давно ты так считаешь?
– Очень давно.
– И ты молчала? Ты репрессируешь чувства…
– Оставь в покое мудреные слова, говори по-английски.
– Да я просто не знаю, что и сказать…
– Вот с этим, по-моему, у тебя никогда не было проблем.
– Я породил монстра, боже мой!
– Каждый раз, когда я слышу имя твоего эскулапа, мне хочется заорать!
– Да забудь, никогда больше его имя не сорвется с моих губ, поверь мне…
Он почти сдержал слово. Доктор Маркс, если и упоминался вновь, то не Эймосом. Сама Лайла время от времени интересовалась.
– Как сегодня самочувствие Гарпо? Гарпо был сегодня в добром здравии?
Обычно она спрашивала, если видела, что Эймос особенно возбужден после сеанса. И ему приходилось сдерживаться изо всех сил и тихо отвечать.
– Как мило с твоей стороны беспокоиться о нем.
* * *В дверь постучала Джессика.
Эймос посмотрел на Лайлу и сел в кровати.
– Друг или враг?
Дверь открылась, и Джессика сделала шаг вперед. Она посмотрела на опущенные шторы:
– Вы тоже спали?
– Вспомнили школьные привычки.
– А мне так хорошо вздремнулось, что я пришла сказать, что хочу поспать еще немного.
– А как же ленч? – спросила Лайла.
– Может быть, позже, когда я совсем проснусь.
– Только крикни, – сказал Эймос.
Она кивнула и вернулась в свою комнату, закрыв за собой дверь.
– Она не спала, – сказала Лайла.
Эймос крепко обнял жену и начал говорить:
– Ладно, что случилось, то случилось сегодня в метро, и я клянусь, я прошу об одном: выслушай и пойми. Видишь ли, как-то раз, может быть, пару месяцев назад, я лежал на кушетке у Маркса, мы разговаривали, и я хвастался ребенком, какая она умненькая, какая смешная и вообще необыкновенная, о ее неожиданных представлениях, и вдруг вспомнил свое детство – у меня был ужасный учитель по музыке, она вдалбливала, заставляла заучивать одни и те же отрывки, одни и те же, чтобы родители, услышав исполнение, ахали и охали от восторга и думали, что не зря теряют время, а я был лучший ученик, и отрывок, который она мне дала, был трудный, и я был ужасно испуган, что не смогу сыграть как следует, хотя ноты я знал хорошо, но сыграть, чтобы это звучало музыкой, не мог, понимаешь, о чем я, и вот в день концерта я играл в мяч на заднем дворе с соседским мальчиком Говардом Фрэнклином, поймал неудачно тяжелый мяч и вывихнул палец, тут мои родители просто сошли с ума от ярости, они столько на меня затратили сил и средств, а я неблагодарный, не хочу ни о чем думать, если играю в день концерта утром в мячи, а моя мать вдруг сказала, что я сделал это нарочно, а мой отец сказал, нет, он слишком глуп, чтобы такое придумать, и тут они начали спорить, и потом разразился очередной скандал, они дико ругались, и было это случайно или нет, а ты помнишь, что все это я рассказываю доктору Марксу, лежа на его кушетке, но тут вспоминаю, как наша Дженни пролила молоко, когда мы снимали летом домик в Хэмптоне, я там пытался сочинить музыку к Диккенсу, к книге, не помню точно название, я был слишком туп, чтобы выбрать «Оливера Твиста», это был «Холодный дом», по-моему, и я никак не мог ничего придумать, а ребенок сидел на высоком стуле и ужинал, а я носился как угорелый, и ты сказала, чтобы я прекратил, а я велел тебе замолчать, и мы начали дико ругаться, и тогда она взяла и пролила молоко, помнишь, взяла и выплеснула всю чашку, и на полу растеклась огромная лужа, и я сказал Марксу, какого дьявола я это тебе рассказываю, и он сказал, понятия не имею, я спросил, с чего я начал, и он напомнил – с того, какая замечательная у тебя дочь, какие она устраивает представления. И тогда я все понял, Лайла! Я увидел все так ясно – она пролила молоко, чтобы остановить нашу ссору, и она каждый раз устраивает свои маленькие концерты, когда мы ругаемся, и понимаешь теперь, что произошло сегодня – мы были настолько накалены, что она решилась на крайний шаг, потеряла нарочно свою куклу, самую любимую, которую любит больше всего на свете, и когда она мне сказала, что Каддли пропала, я подумал, мне надо просто убить себя, посмотри, сказал я себе, что ты делаешь – ты убиваешь своего ребенка!