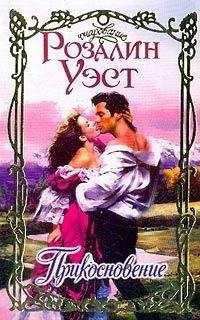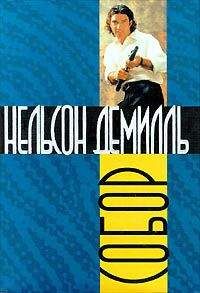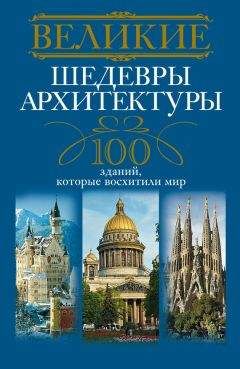Уильям Голдмен - Дело в том, что...
Готовый к новым сражениям, он поднялся в номер и открыл дверь спальни. Лайла тут же подошла к нему:
– Ты напился?
Он отодвинул ее в сторону.
– От тебя не пахнет.
– Я выпил водки.
– Ты никогда не пил водку. Ты ее ненавидишь.
– Я люблю водку! Я обожаю водку! Я люблю все то, что по твоему мнению я ненавижу. Ты меня не знаешь совсем, какой я, кто я…
– Знаю. Хватит.
– Я обожаю водку, и лук, и капусту, и похмелье, и ругаться с тобой, и…
– Прошу тебя!
Второй раз за этот день его остановил тон, которым были произнесены слова. Он посмотрел на нее, не успев закрыть рот и готовый продолжать.
– Я не хочу ссориться, Эймос. Когда ты ушел, я все думала. Как мы хотели прекратить наши ссоры и решили начать сначала. И вот опять. Но сегодня мы поссорились по моей вине. Я не хотела, но так вышло. Я так устала от бесконечных споров и ругани. Прошу тебя, Эймос.
Господи, кажется она действительно так считает. Возможно.
– Почему мы все время ругаемся, Эймос?
Он пожал плечами:
– Мы не все время ругаемся.
– Да ведь мы не ссоримся, только когда спим. Эймос смотрел на жену. Она была в своем роде так же привлекательна, как любая красивая женщина. Часть красоты составляли волосы – такие светлые, почти платиновые, просто чудесные, когда она не позволяет разным психам портить себе прическу. Кожа тоже очень светлая, зеленые глаза, и она всегда одевается так, чтобы их оттенить. Она еще не переоделась, на ней было светло-зеленое шелковое платье, которое она надевала утром, оно прекрасно гармонировало с цветом глаз. Довольно плоская грудь, да и сзади не за что было ухватиться, но это его никогда не отталкивало, хотя, будучи холостым, считал, что возьмет в жены задастую, грудастую секс-бомбу, только такой красотке позволит себя поймать в сети.
– Эймос?
– Я здесь.
– Давай не будем больше ссориться.
– Согласен.
Она кивнула и отошла к окну. Постояла, глядя на Кэдоган-Плэйс, потом, не оборачиваясь, сказала:
– Прости меня за метро.
– Метро?
– Ну, помнишь, когда мы вышли из отеля сегодня утром.
– А что тогда случилось, я не помню.
– Ты не помнишь? Ну ты еще хотел поехать на метро, а я тебя обрезала.
– И как ты это сделала? – Эймос прислонился спиной к двери, все еще чувствуя настороженность.
Она обернулась:
– Я велела швейцару подогнать такси. А знаешь, почему я вела себя как стерва? Потому что была расстроена, прическа казалась безобразной, выгляжу я совершенно нелепо, а ты… Только не отрицай, Эймос.
– Но я не произнес ни слова.
– Ведь я купила это платье специально для поездки в собор и надела его первый раз, а ты… даже не заметил.
– Заметил. И подумал, что тебе очень идет.
– Но ты мог хотя бы намекнуть.
– Я думал, где сделать пересадку – на Пиккадилли или на Олборне.
– Вот в чем наша проблема, Эймос. Мы еще не сядем в поезд, а думаем о пересадках, еще до того, как поезд отъедет.
И вдруг неожиданно начала беззвучно плакать. Они встретились на середине комнаты.
– Что на этот раз я сделал?
Она прильнула к нему, как будто ища защиты.
– Я ненавижу себя за то, что бываю такой дрянью. Слышу себя и сразу вспоминаю мать и как она непременно должна выиграть, победить всех. Каждый раз, когда я так поступаю, это она во мне говорит, и ты должен ее остановить, Эймос. Я так и вижу, как она одобрительно кивает головой: «Молодец, моя дочь, так и надо, детка».
– Как ты можешь говорить такие ужасные вещи о такой прекрасной особе, как твоя мамочка?
Лайла невольно рассмеялась.
– Я не могу, когда ты смеешься и плачешь одновременно. Выбери что-нибудь одно.
– Выбираю тебя. – И обняла его так крепко, что он забеспокоился о своей спине.
«Вот она, – подумал он, – моя девушка, на которой я женился! Она вернулась ко мне, она здесь, люди!»
Не размыкая объятий, они придвинулись к кровати, на которую, придерживая Лайлу, он осторожно опустился вместе с ней, она поцеловала его страстно, проталкивая язык, а его руки скользнули вниз к ее груди, и он начал поглаживать, массировать, и Лайла его не останавливала, хотя не любила, когда он так делает, наверно, из-за того, что считала свою грудь маленькой и стеснялась, но сейчас все было хорошо, просто великолепно, судя по ее реакции и движениям языка, и он начал думать, где расстегивается новое платье, застегнуто оно на молнию или пуговицы сбоку, решил, что молния находится сзади… Вдруг ему послышался какой-то звук из соседней комнаты. Вероятно, Лайла тоже услышала, потому что быстро отстранилась и машинально поправила свои растрепавшиеся светлые волосы.
– Ты слышал? Что это?
– Ну уж это слишком! Послушай, а нельзя дать ей пять центов и отправить в кино?
Лайла покачала головой.
– Дело дрянь, – пробормотал Эймос.
Она приложила палец к его губам.
– Можем притвориться, что тоже легли отдохнуть, – мягко сказала она, – по крайней мере тогда мы можем хотя бы обнимать друг друга под простыней, встань-ка на секунду. – И когда он встал, быстро сняла покрывало с кровати, откинула одеяло, потом, подбежав к окну, торопливо опустила шторы. Они молча быстро разделись до нижнего белья, Лайла скользнула в постель, Эймос последовал за ней и, когда одеяло надежно их укрыло, снова начал ласкать ее грудь.
– Она теперь проснулась окончательно, – прошептала Лайла, – перестань, надо быть настороже.
Эймос кивнул и перестал.
– Не отпускай меня, прошу, – быстро сказала она, – пожалуйста.
Эймос прижал ее к себе, вдруг мелькнула мысль, не рассказать ли ей правду о том, что произошло сегодня утром, безопасно ли это.
– Ого, – сказала Лайла, – ты о чем-то задумался.
Эймос не стал отрицать.
– Ну, или говори, или молчи. Как хочешь.
– Я молчал, потому что это касается его.
– Его?
– Ты знаешь, о ком я.
– Понятия не имею, что ты имеешь в виду.
– Я скажу, но дай слово, что не будешь сердиться. Никаких раздражений и оскорблений, ничего.
Лайла уютно прижалась к его боку.
– Успокойся, – сказала она, – почему меня должно раздражать все, что болтает твой Гарпо?
* * *Насколько Эймос ненавидел свою тещу, настолько же Лайла невзлюбила его психоаналитика – доктора Маркса. Хотя Эймос считал доктора самым невозможным объектом для ненависти, тем не менее Лайла выбрала именно его. Эймос потом осознал, что эта ненависть была вызвана его собственной неосторожностью, но было уже поздно. Когда он познакомился с доктором Марксом и начал дневные сеансы, по неведомой для себя причине потом, оказавшись дома, он начинал рассказывать Лайле все, что считал интересным из того, что происходило на этих сеансах. Доктор Маркс – маленький человечек сорока с лишним лет, пробившийся в Нью-Йоркский университет, в поте лица летом трудясь в Кэтскиллз Гроссингере. У него было два хобби, которые он непрерывно совершенствовал, – анекдоты, смешные и поучительные случаи из жизни известных людей на иностранных акцентах. Он знал все шутки и анекдоты на свете и мог говорить с неподражаемым акцентом идиш, или немецким, или итальянским. У него была ужасная привычка – заканчивать большинство своих сеансов какой-нибудь шутливой притчей. Вначале Эймос из вежливости считал своей обязанностью хохотать над прибаутками Маркса, хотелось ему этого или нет. Однажды мартовским утром, на третьем месяце лечения, Эймос восстал и перебил доктора на середине очередной байки.