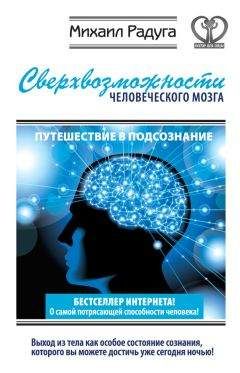Михаил Слонимский - Лавровы
Отец Бориса, инженер Лавров, работал на заводе не в самом городе, а в дачном поселке за Разливом. Поэтому-то Лавровы выезжали каждое лето сюда на дачу. Так случилось — предложили инженеру Лаврову службу, он и согласился. Он предполагал вообще переехать за город, но Клара Андреевна наотрез отказалась, а взять свое согласие назад он уже не мог. Впрочем, вскоре выяснилось, что мастер Кельгрен отлично заменяет его в цехе. Служба оказалась, в общем, необременительной. Лавров приезжал на завод не самым ранним поездом и уезжал задолго до окончания работ.
В один из предвесенних дней шестнадцатого года в цехе Лаврова произошло несчастье. Раскаленная штанга ударила рабочего. Ему не удалось ухватить клещами злой металл и направить его дальше, и вот теперь он корчился на земле, обожженный и окровавленный. Это был неопытный молодой парень, недавно пришедший на завод.
В таких случаях Кельгрен всегда бывал спокоен и распорядителен, как старослужащий унтер на войне. Надо было возможно скорее скрыть от окружающих следы происшествия и полностью восстановить ритмический шум, от которого все вокруг приятно подрагивало. Кельгрен любил этот грохот, сверкание и блеск металла и с нежностью глядел на оформленные профили, рождавшиеся из раскаленных болванок. Эти профили были целью его работы. Он любил эту работу и любил порядок в ней. Тот, кто не умел справиться со своим делом, должен был пенять только на себя. Кельгрен тоже не один год простоял простым станочником и не сразу выбился в мастера. Недовольный нарушением обычного ритма, он подошел к месту происшествия, распоряжаясь на ходу.
Лавров тоже подался было за ним, но Кельгрен почтительно, тихим голосом обратился к инженеру:
— Разрешите доложить — обождите, пожалуйста. Народ грубый.
И Лавров отошел в сторонку, чувствуя себя, в сущности, совершенно лишним даже тут, на месте своей работы. Не ново, но всегда странно было ему это ощущение своей непричастности ко всему, что совершается в жизни, словно ему однажды перебило хребет и он раз навсегда потерял всякую способность двигаться.
Кельгрен знал умирающего парня. Он знал даже, что тот женат и что у него недавно родился ребенок. Девочка, кажется. У мастера уже давно создалась привычка узнавать о каждом рабочем как можно больше — его нельзя было упрекнуть в отсутствии интереса к тем людям, которыми он призван был руководить.
— Разойдись! — командовал он строго. — Кто дела не знает, с каждым так будет. А вы, — он ткнул коротким пальцем в двух рабочих, что стояли рядом, — несите к фельдшеру. Живо!
Но, несмотря на этот окрик, не все отошли. Кое-кто остался, непослушно и упрямо. Кельгрен был человек опытный. Он угрюмо, из-под нависших бровей, поглядел на непокорных.
— Что на войне, что тут — одна беда, — говорил Каширин, громадного роста парень с багровой, обваренной паром щекой. — Дадут жинке трешку, а то и рупь — и дохни с голоду. Долго ли на трешку проживешь?
— А ты помалкивай, — спокойно посоветовал Кельгрен. Он очень редко раздражался. — Что дадут — это не наше с тобой дело. На это хозяева есть.
И вдруг услышал:
— Вот сволочь! Холуй хозяйский!
Он оглянулся и спросил тихо и яростно:
— Кто это сказал?
Но никто не ответил.
Парня уже понесли. Рабочие возвращались к своим станкам.
— На оборону работаем, — промолвил Кельгрен угрожающе. — У нас таких делов быть не должно. Военный завод. Кто сказал?
Опять никто не откликнулся.
Уборщица с вечно подоткнутым и вечно грязным подолом подтирала пол с таким равнодушием, словно кто-то тут квас пролил. Ритмический шум прокатных станов возобновился.
Кельгрен стоял, приземистый, смуглый, сумрачный, оглядывая молчаливо, работавших людей.
Он стремился всегда выполнять порученную ему работу честно и добросовестно. Так поступали его отец, его дед, его прадед — так поступал и он. Он внимательно и с любовью обучал каждого новичка и каждому старался объяснить, что надо думать только о своем деле и делать его как можно лучше — тогда будет удача в жизни. Сейчас он был искренне обижен и огорчен. Разве ему самому не жалко этого глупого раззяву? Да он сегодня же навестит его семью, на похороны пойдет и, может быть, чем-нибудь даже поможет. Ведь малый ребенок остался! Но дело тут ни при чем. Работа должна продолжаться.
Инженер Лавров подошел к нему, теребя седенькую бородку, но Кельгрен не дал ему сказать ни слова. Он промолвил сумрачно:
— Разрешите доложить — вы бы, Иван Николаевич, домой поехали. Я тут за работой догляжу.
Фраза была обыкновенная — Лавров часто уезжал, оставляя цех на Кельгрена. Но сегодня в словах мастера звучало что-то очень обидное. Лавров кашлянул и, решив показать мастеру, что все же главный тут он, инженер Лавров, неожиданно согласился:
— Да, пожалуй, поеду. Поеду, пожалуй. Тем более — поезд…
Что именно поезд — это он не объяснил и пошел на станцию, окончательно убитый тем, что резкие слова, которые он собирался сказать мастеру, застряли у него в горле. Нет, конечно, жизнь для него кончена. Давно кончена. Дело дрянь. Рабочие даже и не ругаются с ним, как с Кельгреном. Просто презирают.
А Кельгрен до конца дня ждал, что ребята поймут, попросят у него прощения и скажут, кто сгрубил. Но никто из тех, кто стоял в кучке возле парня, и не подумал оказать мастеру такое почтение. И все угрюмей глядели глаза Кельгрена из-под низко нависших бровей.
В привычной темноте возвращался Кельгрен домой вместе со своим соседом по даче, длинноногим токарем. Оба молчали. Прощаясь, токарь вдруг сказал:
— Ребята говорят: ружья на свою голову готовим.
И не успел Кельгрен ответить, как токарь хлопнул калиткой и скрылся.
X
Когда увели отца, была мокрая осенняя ночь. Николай Жуков остался один в похожем на баню убогом деревянном строенье, в котором он жил с отцом последние довоенные месяцы. А через несколько дней он был уволен из железнодорожных мастерских. Ему надлежало явиться на призыв. Он долго бродил в тот день по родным местам, прощаясь с ними. Здесь он вырос, здесь начал зарабатывать, поступив станочником на завод и получая трешницу в месяц. Завод находился в километре за железнодорожными путями. Огнедышащая и дымная громада его, расположившись близ озера, возвышалась над скудным скопищем деревянных домишек. За кирпичными корпусами завода ширился песчаный пустырь, и далеко отодвинутая природа отвоевывала свои права только в приморском парке, куда не было ходу заводскому рабочему.
Здесь все было так знакомо Николаю Жукову, что он знал даже, какие и где тут бывают осенью лужи. Речка извивалась здесь, стремительная и опасная. Перерезав железную дорогу, она мчалась меж рыбачьих хат, сквозь дубовую рощу, меж болотистых берегов к лохматому морю, которое никогда не бывало синим. В водоворотах этой речки гибло немало детей. Древние, петровских времен, рвы окружали рощу. По берегу речки Николай Жуков прошел к маленьким домикам, стоявшим в стороне от изрытого шоссе. Двести лет подряд завод глотал поколения людей, населявших этот кусок сырой приморской земли. За эти двести лет кое-кто успел обзавестись собственными домишками, которые строились десятилетиями и потом передавались от поколения к поколению. Это были незатейливые дачки, по большей части некрашеные, с огородом и убогим садиком, в котором торчало несколько берез да сосен.
Николай постоял перед одной из таких дачек. Огонек уже зажегся в ней. Глядя на такие огоньки, мать Николая говаривала отцу:
— Ужели не будет нам хоть под старость покоя?
Она нашла покой, не дожив до старости. Надорвавшись на работе в депо, она умерла, и ее похоронили на высоком берегу, у самого края кладбища. Отец шел впереди, прихватив гроб за ручку, и слезы текли по его усам и бороде. Это был крупный, сильный мужчина, любивший читать толстые книги, с виду ученый, а не машинист. Ни до, ни после этого дня Николай никогда не видел его плачущим.
Николай вспомнил мать, всегда тихую, кроткую, веселую, с молодыми ямочками на щеках, представил себе отца в тюремной камере, должно быть шагающего из угла в угол по своей старой привычке, и отвернулся от уютных огоньков в дачных окнах.
Вечером он пошел к станции. В осеннем сумраке хлестал дождь, ветер налетал и шумел в оголенных кустах и деревьях, а вдали ревело море. Тревожно запела сирена.
Это был очень скверный, навсегда запомнившийся вечер. Тускло светилось окошко ветхой станционной постройки. Над мокрым перроном двигался желтый фонарь в руке дежурного. Николай опустился на лавку в ожидании поезда и замер в неподвижности.
Какая-то старушонка уместилась рядышком, уложив на колени кошелку, прикрытую черной тряпкой.
Она обняла кошелку обеими руками и охотно заговорила:
— Федосей наш, с лабазу, принес новостей со всех волостей. Воюем, говорит, а вы живете — мимо уха не пролетит и муха. Завязался один мужчина среди дамов и гордится… — Она подождала ответа и, не дождавшись, хлопотливо вздохнула и продолжала: — Все не слава богу. Внучок мой, родной внучки моей муж, в матросы далеко послан. Погода у него, пишет, — прелести! А Настасья прочтет — и плачет, и плачет!