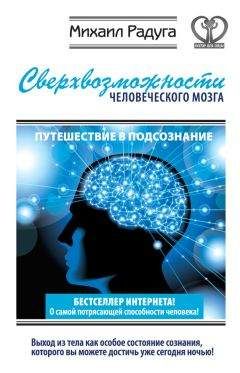Михаил Слонимский - Лавровы
Поручик Орлов проиграл за ночь кандидату на классную должность Замшалову такую сумму, которую не мог отдать.
Замшалов тоже выбрался из землянки. Это был невысокий плотный черноволосый человек. Он расстегнул зеленый китель, открывая не слишком чистую рубашку.
— Прелестное утро, — сказал он. — Какая свежесть!
Шумно потянув воздух широкими ноздрями приплюснутого носа, он пошел к лесной опушке и вдруг остановился.
— Глядите! — воскликнул он. — Какое зрелище!
Саженях в ста от леса прижалась деревушка, в которой были замаскированы два орудия. К этой деревушке по зеленеющим грядам неслась артиллерийская упряжка. Ездовой гнал лошадей, пригнувшись и торопясь проскочить с зарядным ящиком открытое пространство. Но немцы уже заметили его и взяли на прицел.
Свист обозначил приближение первого снаряда. Снаряд разорвался негромко, дымок от него стлался, как от потухающего костра; ездовой, делая зигзаги, мчался дальше. Но уже летел, ловя его, другой снаряд, и третий, и четвертый.
— Взорвется от детонации, — проговорил Замшалов и покачал головой.
Но он продолжал напряженно всматриваться в эту страшную игру.
Поручик Орлов уже стоял рядом с ним и тоже наблюдал эту борьбу ездового со смертью.
— Как бы думаете, проскочит или не проскочит? — промолвил он, и глаза его блеснули азартом.
— Хочу, чтобы проскочил, — отвечал Замшалов.
— Ставьте весь свой выигрыш на это, — сказал вдруг поручик.
— На что? — удивился Замшалов.
— Я предлагаю вот что, — нетерпеливо отвечал поручик Орлов: — если он не проскочит — я отыгрался и ничего вам не должен. Если проскочит — моя карта бита, и я плачу вам вдвое больше, чем должен сейчас. Понятно? Ставка — весь ваш ночной выигрыш.
— Но это не гуманно! — запротестовал чиновник. — Ставить на жизнь человека!
— Вы ставите гуманно — на жизнь. А я — на смерть. Идет? Идет! Молитесь богу за его жизнь.
Замшалов пожал плечами, соглашаясь.
Ездовым был Николай Жуков.
Николай напрягся в одном устремлении — проскочить!
Снаряды ловили его. Воздух полнился звоном и грохотом разрывов. Стремительные осколки били во всех направлениях, ища скачущую цель. Детонация! Эта мысль звенела в нем.
— Все шансы за меня, — промолвил Орлов.
Замшалов смотрел молча.
Лошадь под Николаем храпела. Артиллерийская упряжка неслась по кривой, подаваясь то вправо, то влево. Все было смертью на этом отрезке поля, по которому мчала человека обезумевшая лошадь.
Глаза Николая видели все черным и лохматым, как дым. Но руки и ноги управляли движением с максимальной точностью. Мыслей не было уже никаких.
Проскочить через смерть — из жизни в жизнь!
Замшалов и Орлов молчали, не в силах оторваться от этого зрелища.
Вдруг поручик длинно выругался — упряжка достигла деревни.
Деревня, в которой были замаскированы орудия, представилась Николаю самым безопасным местом в мире. Он был весь в поту. Рубашка и штаны прилипли к телу.
— Ваше счастье, — сказал поручик Орлов Замшалову.
Тот продолжал молчать.
— Вы понимаете, что я теперь должен вам вдвое больше? — осведомился поручик.
Замшалов пожал плечами.
— Вы так хотели.
Они все еще стояли на опушке.
— Он опять едет! — воскликнул Замшалов.
— Да, но уже пустой.
Действительно, Николай, сдав снаряды, возвращался на батарею.
— Хотите опять ставить? — спросил Орлов.
— Он испытывает судьбу! — воскликнул чиновник в ужасе. — Теперь его наверняка убьют! Почему было не дождаться ночи?
— Его послали днем, и он обязан выполнить приказ командира, вот и все. Испытывает судьбу! — передразнил Орлов. — Батарею нащупали, ночью будут менять место, снарядов к ней не припасли — и до ночи ей не отстреливаться? Не рассчитали снарядов! Разве так воюют? Испытывает судьбу! — обозлился он. — Да мы только этим и занимаемся! Говорите прямо, что не рискуете ставить на него, и не морочьте голову.
И он пошел по опушке леса туда, где должна была проехать упряжка.
Вдруг Замшалов вскрикнул.
Орлов оглянулся и увидел, что ездовой покачнулся на лошади, но удержался, и лошадь не замедлила ходу. Теперь его ловили гораздо меньше: без снарядов он не представлял большого интереса.
Въехав в лес, Николай остановился, сошел с лошади и, присев наземь, оттянул разорванную и окровавленную штанину. Затем он вынул пакет — подарок Лизы Клешневой — и принялся перевязывать рану. Иногда он замирал, отдыхая и счастливо улыбаясь самому себе: жив!
Поручик Орлов приблизился к нему почти вплотную и закричал:
— Ты! Офицера не видишь? Раззява! Встать, смирно!
Солдат поднялся, разогнувшись, и рука его автоматически козырнула офицеру.
— Виноват, ваше благородие, — отвечал он отчетливо. — Я ранен, ваше благородие.
— Сукин сын! Сволочь! — ругался поручик Орлов.
Но никакая самая скверная брань не могла успокоить его. Он ненавидел этого солдата, и ему хотелось убить его тут же, на месте. Но разве это вернет ему проигрыш?
Бормоча самые отвратительные ругательства, сам себе противный до омерзения, он пошел проверять роты, а через час его уже несли раненого на окровавленных носилках. С тех пор Замшалов никогда больше не соглашался играть на мелок.
Этот день оказался счастливым для Николая. Он остался в живых. Мало того — он получил ранение, при котором его непременно должны были эвакуировать. Слишком уж ясно стало за последнее время, что фельдфебель все равно так или иначе доконал бы его. Тут уже чувствовался прямой приказ. С поличным поймать нельзя, а убить — надо.
Теперь рана выручала его. Может быть, он попадет в Питер, увидит товарищей, расскажет им все.
В околотке, после перевязки, его положили на тюфяк, брошенный на землю, и здесь, под навесом из ветвей, Николай заснул. Впервые после многих недель он спал безбоязненно. Он спал без сновидений, не шевелясь, как человек, перешедший все пределы усталости. Он спал так, как будто это было самым важным делом в его жизни.
Наутро в санитарной повозке он отправился в тыл. Рядом с ним лежал вольнопер[1]. Возница посвистывал, санитар на козлах дремал.
— Вы кто будете? — спросил Николай вольнопера.
— А вы? — осведомился вольнопер.
— Железнодорожных мастерских рабочий, — охотно отвечал Николай.
Вольнопер поглядел на него, с трудом повернув голову. Лицо его обросло жесткой черной бородой, и неизвестно было, сколько ему лет. Правой рукой он придерживал левую за локоть. От локтя до пальцев левая рука была обмотана, и вместе с кончиками пальцев из повязки торчала шина.
— Я не понимаю, — сказал вольнопер недоуменно, — человеку что надо? Надо сытым быть, время иметь на отдых и сон, в том деле работать, какое любишь. Неужели нельзя это устроить никак?
— А вы сами кто? — осведомился Николай.
— В конторе служил, — отвечал вольнопер. — Сидишь, бывало, пишешь адрес на конвертах — то Тула, а то и Париж. И будто везде бывал и все знаешь. И конверты очень разнообразные: четырехугольные, продолговатые, большие, маленькие… — Он замолк, вдруг оборвав. — Доктор сказал — руку долго лечить надо. Больно очень, — глухо проговорил он через некоторое время.
Размышляя под мерное колыхание повозки, Николай внезапно услышал странные звуки, словно что-то рядом плескалось. Он взглянул на соседа. Конторщик плакал.
— Друг, — тихо сказал Николай, — у меня к тебе дело, вроде как конторское. Правая рука у тебя здоровая. Переписывай и раздавай осторожненько в госпитале, куда попадешь. Понятно?
Они были вдвоем под темным холстом двуколки. Все же Николай огляделся, прежде чем вынуть из кармашка гимнастерки печатный листок. Он передал его конторщику, выждал, пока тот прочел. Затем распорол конторщику штанину и зашил листок под подкладку. Иголка с ниткой всегда были при нем.
— Вот такое твое конторское дело, — промолвил он. — Адрес тут поинтересней Парижа, адрес — свобода.
В листке были известные слова Ленина, те, которые Николай не раз повторял у себя в части. На медицинском пункте, при перевязке, знакомый молоденький врач сунул ему этот листок и шепнул, чтобы он передал его конторщику, предварительно поговорив с ним.
Николай не стал особенно подробно выяснять, что за человек конторщик. Почему-то он был совершенно уверен, что этот человек, уж во всяком случае, не выдаст.
Конторщик молчал, лежа на спине и глядя в нависший складками холст.
— Ты подбрасывай тихонько в госпитале, куда попадешь, — повторил Николай. «На большее он не годится», — подумал он.
Вдруг конторщик повернулся к нему, глаза его горели диковато, он уже не казался тихим, покорным человечком.
— Ротный, пьяный, по лицу меня хлестал, — проговорил он. — Я вольноопределяющийся, а он меня три раза ударил. Я ему пулю в спину пустил, когда в атаку пошли.