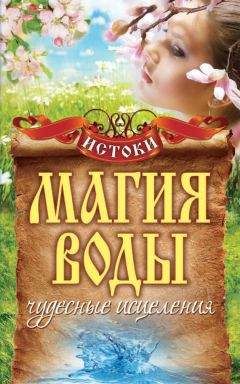Валерий Поволяев - ЕСЛИ СУЖДЕНО ПОГИБНУТЬ
Командовал Железной дивизией темпераментный, крикливый, очень решительный армянин Гай[24].
Под этим именем он и вошел в историю Гражданской войны.
Подлинные фамилия, имя и отчество этого человека — Ежишкян Гай Дмитриевич.
В лютую жару Гай ходил в бурке и папахе; влезая в автомобиль, звенел шпорами, на поясе носил большой серебряный с золотыми насечками кинжал старинной работы. Сталь у этого кинжала была такая, какую уже не выпускал ни одни мастер в мире, секрет ее был утерян. Кинжалом Гай мог располовинить невесомый шелковый платок, подброшенный в воздух. Русский язык Гай знал плохо, картавил, путал слоги и слова, матерился же отчаянно — получалось очень смешно. Но бойцы Гая любили — он никогда не прятался за спины, не боялся ни Троцкого, ни его расстрельных команд, ни Тухачевского, ни Ленина — никого, словом.
Именно Гаю суждено было сыграть решающую роль при взятии Симбирска.
Впрочем, у Тухачевского этих лавров тоже никто никогда не отнимал.
Что же касается Троцкого, то он наблюдал за схваткой под стенами Симбирска уже со стороны — ему важно было послать людей на смерть, подогреть их порыв, чтобы не было срыва, а самому отойти в сторону, чтобы спокойно, с чувством выполненного долга наблюдать, как они будут умирать.
Старик Еропкин гнал и гнал коня рысью по едва приметной колее. Не останавливаясь, одолели километров восемь, не меньше. Он размахивал вожжами, хлопал кнутом и постоянно оглядывался назад — ему казалось, что следом обязательно должен увязаться какой-нибудь дурак в голубых бархатных штанах и в сапогах, истыканных блестящими латунными заклепками, но никто за ними не гнался: то ли банда, следовавшая за каппелевскими частями и втихую, под шумок грабившая богатых соотечественников, была малочисленной, то ли это просто была разведка какого-нибудь батьки — наглая, жадная и неопытная, потому и полегла, столкнувшись с людьми умелыми.
Дед остановил усталого потного коня, загнал его вместе с телегой в кусты, выбрав место похитрее, чтобы в прогал между кустами была видна дорога, а сами они с дороги не были видны, — отер ладонью лоб.
— Уф! — произнес он, похлопал себя по мокрым плечам.
Хотя на улице было тепло — солнце светило, как в июле, — от крупа коня исходил приметный, очень тяжелый кудрявый пар, будто глубокой осенью, в заснеженном ноябре.
Старик Еропкин погладил коня и неожиданно заохал, запричитал — увидел на его шее, под хомутом, кровь.
Распустив ремешок, стягивающий хомут, он поспешно запустил под войлок пальцы, поковырялся там и вытащил сплющенную пулю. Пробормотал озадаченно:
— Вот те раз! Как же эта дура попала сюда?
Поручик, лежавший с закрытыми глазами, открыл их, глянул на пулю с профессиональным интересом:
— Рикошет. Пуля влепилась во что-то твердое, отрикошетила и попала под хомут.
Еропкнн почесал затылок:
— Однако!
Варя заколдовала над поручиком — надо было сменить бинт. Этот был уже весь в крови. Набух очень быстро.
— Выбросьте, — спокойно произнес поручик. Лицо его было бледным. Чувствовалось, что ему очень больно, но он терпит эту боль, не подает вида, что оглушен ею, стискивает зубы, — потому так и спокоен, и говорит медленно, тщательно выговаривая слова.
— Выбрасывать нельзя, — рассудительно произнесла Варя, — бинт я выстираю, и он еще послужит. А выброшенный бинт — это выброшенный бинт.
Поручик улыбнулся краем рта: в голосе Вари сейчас прозвучало что-то старушечье, ворчливое, заботливое, внутри у него шевельнулась нежность, сделалось тепло.
— Варя, простите меня... Поступайте, как знаете. Вы правы, вы вообще всегда правы. Неправой вы быть не можете, я в этом уверен.
— Ить какая гаднна! — выругался старик Еропкин.
— Кто гадина? — насторожился поручик.
— Да пуля эта. Выставила из-под хомута ребро и ребром этим натерла коню шею до крови. Вот гадина!
— Кто же были те люди, что атаковали нас около ручья? — Пальцы у Вари были невесомые, она сменила бинт, почти не прикасаясь к ране, поручик даже не почувствовал, как новая повязка легла на место старой. — Бандиты?
— Совершенно верно. Обыкновенные бандиты, — подтвердил Павлов.
— Откуда же вылезла вся эта... грязь, пыль, накипь, — Варя никак не могла подобрать нужное слово, — мусор весь этот?
— Всякая война рождает много мусора. Особенно война гражданская.
— Выходит, на нас еще могут напасть?
— Могут.
— Кто? Красные? — Голос у Вари сделался высоким, девчоночьим, просквозило в нем что-то жалобное.
— И красные могут, и мусор этот — все могут.
— Что нам делать?
— Только одно — отбиваться. Бог подсобит — отобьемся. — Поручик устало опустил голову на подстилку. Загорелое лицо Павлова было бледным. Он глядел на девушку и думал о том, что станет самым счастливым человеком на свете, если завоюет ее. Коснулся пальцами Вариной руки, произнес шепотом: — Варя...
Та заметила в его шепоте что-то тревожное, подумала, что поручику больно, поспешно приложила ладонь к его лбу.
— Температуры вроде бы нет.
— Да я не о том, Варя. — Поручик снова коснулся пальцами ее руки. — Расскажите мне о себе.
В ответ девушка грустно улыбнулась:
— Здесь? Сейчас?
— Хотя бы немного.
— Отца и матери у меня нет...
— Господи... Простите. Не хотел вызвать у вас печальные воспоминания.
— Ничего, — Варя поправила подстилку под головой поручика, — маму я два дня назад видела во сне. Это означает, что надо заехать в церковь, помолиться, поставить свечку за упокоение.
— А-а... — поручик невольно замялся, — что случилось с родителями?
— Отец был инспектором гимназии в Москве. Погиб на германском фронте в чине штабс-капитана. Воевал у генерала Брусилова. Мать умерла: была сестрой милосердия в госпитале и случайно заразилась тифом. Спасти не удалось — слишком слабым, неспособным к сопротивлению оказался у нее организм.
— Господи, Варя! — вновь воскликнул поручик. — Вам пришлось столько перенести.
— Остался у меня только брат. Старший... Петр Петрович Дудко. Где он сейчас находится, что с ним — не знаю. Может быть, в Москве, на квартире есть письма... Но где она, Москва-то?
— До Москвы далеко, и власть там не наша.
Из ближайших кустов с шумом — сделал это специально, чтобы предупредить о своем появлении молодых, — вывернулся старик Еропкин. В руке он держал несколько тонких земляничных стебельков, украшенных крупными спелыми ягодами.
Церемонно поднес стебельки Варе:
— Держите, барышня.
Та благодарно улыбнулась:
— Какая прелесть!
— А дух от земляники, обратите внимание, какой исходит, а?! Это — поздняя земляника, она все в себя вобрала. Все тепло лета, все ароматы. Все солнце... Кушайте, барышня!
Варя отщипнула губами одну ягоду, наклонила восхищенно голову:
— Прелесть!
Тихая мирная картина. Никакой войны. Ни близких выстрелов, ни далекого грома... Дедок поправил на груди георгиевскую награду и свел вместе редкие седые бровки, проговорил озабоченно:
— Однако мы потерялись. Ни следов в воздухе, ни отпечатков на земле... Что делать будем, ваше благородие?
— Искать!
— Не наткнуться бы нам снова на какую-нибудь... неприятность. Вроде той, от которой мы только что отделались.
— Вновь постараемся отделаться. — Кадык на шее поручика, острый, костистый, дернулся, вызвал у Вари невольную жалость и страх — она поняла, что отныне будет бояться потерять этого человека.
На виске у нее задергалась мелкая нежная жилка. Ведь если в пламени войны исчез ее брат, которого она ; ищет, но не может найти, то может статься так, что она осталась совершенно одна — абсолютно никого из родных на этом свете... Она едва приметно вздохнула, слабый вздох этот уловил поручик, повернул к ней лицо:
— Варя, если вам когда-нибудь понадобится помощь — всегда можете рассчитывать на меня.
Та отозвалась едва слышно:
— Спасибо.
— Если понадобится моя жизнь — также можете рассчитывать на нее.
Под Казанью тем временем собрался мощный красный кулак. К городу подступила Пятая армия, которой командовал Славин, бывший поручик, опытный солдат. Тухачевский, готовившийся к штурму Симбирска, также оставил ряд частей под Казанью, хотя они как воздух, как хлеб были нужны для штурма города, в котором родился Ильич. Однако Тухачевский понимал — родина Ленина не имеет никакого стратегического значения, это не Казань, не та точка на карте, которая может определить дальнейшую судьбу мира. Взятие Симбирска — обычный пропагандистский ход, победный вопль Троцкого, а Казань — это и тактика, и стратегия, вместе взятые.
И тем не менее раз он пообещал к двенадцатому сентября взять Симбирск, он его возьмет. Чего бы это не стоило. Тухачевский относился к тем людям, которые слов на ветер не бросают.
Силы белых, защищавших Симбирск, были невелики: пехотный полк, сербский отряд, несколько чешских рот, усиленных броневиками, артиллерия, привыкшая расчищать дорогу перед пехотой, — вот, пожалуй, и все, что там имелось.