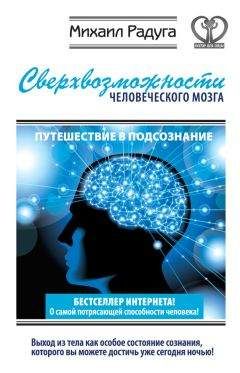Михаил Слонимский - Лавровы
— Теперь станет спокойно, — заметил за обедом господин Беренс.
— О да! — согласилась полная дама.
И все. Они умели не тратить лишних слов.
«Значит, — думал Борис, — произошло то, чего не было в феврале. Не городовые, не полицейские, а солдаты стреляли в демонстрантов. Какие же это солдаты? Что бросает сейчас людей друг на друга?» Борису подумалось, что юноши из богатых семей, с которыми он ехал на фронт, конечно могли бы стрелять третьего июля по безоружным демонстрантам, по простым солдатам, которым эта война так же не нужна, как не нужна была и царская. Не все в ударном эшелоне были такими уж болванами, как ему сначала казалось. Он вспомнил, что юноши из особенно богатых семей тотчас же по прибытии на фронт были произведены в офицеры и получили разные штабные должности. Никого из них Борис не помнил в атаке. Все-таки пребывание в ударном эшелоне кой-чему научило Бориса. Все эти дни после третьего июля он размышлял как раз над тем, что ему пришлось видеть именно в этом эшелоне. Пожалуй, зря он презрительно называл его эшелоном болванов. Там главное было совсем не в глупости или уме.
Любимым местом стала для Бориса скамейка у тихого озера. Он каждый день проводил здесь утренние часы: читал, думал, вспоминал. Да, конечно, событиями третьего июля должны быть довольны и англичанин, предлагавший русским солдатам стать верными патриотами Англии, и петербургские богачи, устроившие своих сыновей на безопасные штабные должности, и господин Беренс. А Григорий Жилкин просто состоит у них на службе и поставляет им необходимые революционные слова.
«Большой Кошель», — вспомнились вдруг Борису слова ратника Семена Грачева. Эти слова резким и ясным светом освещали то, что произошло третьего июля. Когда Грачев бросил ему эти слова, Борис оттолкнул их от себя, но теперь они возвращались к нему, и их уже нельзя было оттолкнуть. Теперь Борис читал уже не «Первую любовь» Тургенева, а «Коммунистический манифест» и брошюры об учении Маркса (эти книги дала ему с собой Надя), и ему казалось, что впервые в жизни он начинает всерьез разбираться в том, что происходит вокруг него.
Теперь он другими глазами смотрел на обитателей «Монрепо». Ведь это и был тот самый Большой Кошель, о котором говорил ему ратник Семен Грачев.
Но — странно: размышляя над всем этим, Борис продолжал бездействовать. Обитатели пансиона «Монрепо» казались ему порой всего лишь экспонатами какого-то диковинного музея.
Однажды, выйдя к обеду, он заметил, что хозяйка уже не сидит на своем месте за столом. Вскоре она появилась, неся дымящуюся миску с супом.
— Где Марта? — удивился господин Беренс.
Хозяйка, вернувшись к своему месту, наполнила тарелку супом, поставила ее на стол и заплакала:
— Такой некультурный, необразованный народ!
И, утирая слезы, она объяснила, что весь штат прислуги — кухарка, горничная Марта, сторож — забастовал. Продолжает работать только электротехник.
Никто за столом не взволновался: тут сидели люди, привычные к такого рода историям. Никто ничего не сказал, но после обеда господин Беренс и полная дама предложили свои услуги вместо забастовавших. Полная дама настояла на том, чтобы заменить кухарку, а господин Беренс заявил, что он сегодня будет ночевать в сторожевой будке. Хозяйка растроганно благодарила их.
В семь часов вечера загорелось электричество, но не прошло и десяти минут, как оно потухло: электротехник тоже снялся с работы. Через полчаса электричество вновь зажглось: место электротехника занял сын хозяйки.
Борис вышел погулять. Он хотел встретить кого-нибудь из бастующих. В полуверсте от пансиона находился клуб, где собирались финские рабочие. Он пошел туда. Перед клубом, на лужайке, толпилось много народу. Кричали, смеялись отрывисто; вспыхивали при затяжке и раскурке огоньки в трубках. Бориса заметили. Незнакомый финн подошел к нему и, сердито хмуря белесые брови, проговорил на своем языке длинную фразу, из которой Борис не понял ни слова. Но жест финна был достаточно понятен — финн гнал Бориса прочь отсюда. Уж одно то, что Борис жил в пансионе, делало его врагом для этих людей.
Борис покорно повернул домой.
На следующий день все, кроме него, были втянуты в работу. Молоденькая дамочка помогала полной даме на кухне; хозяйка убирала комнаты; ей помогала бонна, на попечение которой, кроме того, были отданы все дети; господин Беренс и муж хозяйки по очереди исполняли обязанности сторожа; сын хозяйки работал в огороде и в поле, а вечером сидел на электрической станции. Борис ничего не делал, и это было похоже на молчаливую демонстрацию. Обитатели пансиона вежливо ждали, когда он сам предложит свои услуги.
«Надо завтра же уехать», — решил он. Это «завтра» было последней надеждой — авось все успокоится как-нибудь само собой.
За обедом господин Беренс вежливо осведомился у него:
— У вас руки совсем отвалились?
Борис был так занят своими мыслями, что не понял его слов. Он только взглянул на него с недоумением.
— Вы долго думаете еще оставаться индифферентным? — осведомился господин Беренс.
Маску жизнерадостного простака он снял еще вчера. Он стал суше, деловитее и злее.
Борис понял. Одно слово — и он окажется либо заклятым врагом, либо закадычным другом этих людей. Третьей возможности нет.
— Ах, господин Беренс, — вздохнула хозяйка. — Господин Лавров так заболел солдатом! Я очень, очень не хотел солдат на пансион взять. Но у меня такой нежный сердце…
Господин Беренс усмехнулся. Он сказал уже в форме приказания:
— Сегодня после обеда вы замените меня.
Борис заметил, что господин Беренс говорит с ним уже не как с равным себе. Может быть, теперь его даже заставят работать больше других, потому что он солдат. Борис встал и вышел из-за стола. У себя в комнате он быстро сложил вещи в мешок, надел пальто, фуражку и, закинув мешок за плечи, двинулся вниз по лестнице. В прихожей его догнала хозяйка пансиона, за ней следовал господин Беренс.
— Испугались? — ядовито спрашивал господин Беренс. — Герой, нечего сказать.
— Я убил командира батальона, в котором служил! — воскликнул Борис. — Я не желаю вам помогать!
Господин Беренс расхохотался:
— Чем отговаривается! Бездельничать да роскошничать — на это вы не большевик! А бороться со швалью — тут вы большевик! Хвастун паршивый! Трус! Врете! Поверю я, чтобы вы посмели убить кого-нибудь! Шваль! Тихоня!
Хозяйку пансиона между тем волновали совсем другие мысли: она боялась, не утащил ли Борис что-нибудь. Никогда не покидавшая ее деликатность мешала ей произвести обыск в его мешке. Наконец она придумала выход:
— Ах, господин Лавров, вы, наверное, очень нехорошо уложил свои вещи. Мужчина никогда не умеет свои вещи уложить. Я вам уложу.
Она протянула руку к мешку. Но Борис уже двинулся к двери:
— Прощайте.
Он проклинал себя за все прошедшие недели. Что за дурак — придумал себе какую-то глупость насчет музея и экспонатов. Хороши экспонаты! Хорош музей!
Хозяйка ломала руки: она была уже уверена, что он украл. Иначе зачем он так торопится!
— Ах, господин Лавров! — воскликнула она, чувствуя, что никак не может потребовать обыска. — Ах, господин Беренс!
Она утешала себя тем, что все-таки получила плату за два месяца, а Борис жил в пансионе меньше. Даже если он украл, то, может быть, она на этом ничего не потеряет. К тому же, большая вещь не влезла бы в его мешок. Тут хозяйка вспомнила фарфоровую статуэтку, которая стояла в комнате Бориса, и стремглав бросилась вверх по лестнице. Если статуэтки нет, то она скажет об этом господину Беренсу, и тот уличит Бориса в воровстве. Но статуэтка стояла на месте. Хозяйка заглянула в гостиную, — все мелочи были на местах.
«Сын инженера не может быть вором», — успокоенно подумала она.
А Борис уже шел по саду. Он почти бежал, не чувствуя тяжести мешка.
Господа Беренсы знали его отца, но это не должно больше успокаивать их в отношении сына!
Только подходя к станции, Борис замедлил шаг.
Он завез мешок с вещами домой и сразу же отправился к Жилкиным.
Надя выбежала ему навстречу.
— Уже? — радостно спрашивала она. — Как ты отдохнул? — Она по обыкновению повела его к себе. — Поправился, — говорила она, поглядывая на него. Она держала его за локоть двумя пальцами, оттягивая рукав гимнастерки. — Ты доволен?
— Очень недоволен, — отвечал Борис и, усевшись на одну из пугавших его некогда хрупких тумбочек, без утайки рассказал все, что с ним случилось в финском санатории. — Не понимаю, как я мог согласиться ехать в этот пансион, — закончил он.
Надя слушала, и слезы накапливались в ее глазах. Сдерживая их, она сказала:
— Но ты же должен был поправиться и отдохнуть?
Надя силилась быть спокойной, но слезы все-таки покатились по ее щекам. Она отвернулась.