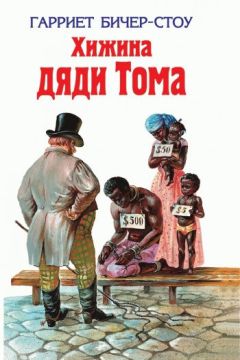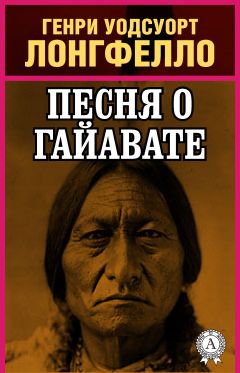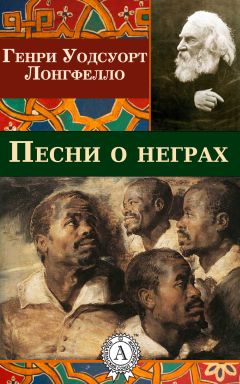Михаил Ландбург - Посланники
Наши плечи потерянно вздрагивали.
Наши глаза застлал угасающий свет.
По моей спине прошёл холод.
"Господи, будь милосерден, - просил я, - подари толику духа". Но нет – бессилие непреодолимо, другим оно быть не в состоянии. Штучный товар.
Запрокинув голову, я увидел два облачка. Одно из них напоминало мамин жакет.
Выглянуло солнце, но день по-прежнему оставался чёрным.
Я подумал: "Кто обманывает кого: день – солнце или солнце – день?"
Я заключил: "День и солнце – не люди. Они-то между собой разберутся…"
…Моё первое знакомство со смертью случилась, когда мне исполнилось одиннадцать лет. Умирал мой дедушка Вилли. Он целыми днями глядел в потолок, и я, забираясь к нему на кровать, вслух читал что-нибудь из Стивенсона. Я твёрдо верил, что до тех пор, пока читаю из Стивенсона, дедушка не умрёт. Умер дедушка ночью, когда я спал…
Прижимая к груди пятилетнего сына Франца, впереди шёл Георг Колман. Я спросил конвоира, читал ли он Ветхий завет. Конвоир не ответил. Его резиновый плащ был перепоясан ремнём с пряжкой, на которой было выбито "Gott mit uns". "Они и Бога присвоили себе", - подумал я и вслух произнёс: "Кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего её"*
Конвоир встряхнул головой, и я увидел, как на его каску села одинокая муха. Подобную каску хранил в доме мой дедушка. Это была каска времён 1-ой мировой войны. Дедушка подобрал её в поле за городом. В ней он набирал воду для поливки цветов. "Атрибут войны на службе у красоты", - говорил дедушка.
- Может, откроете мне тайну вашего Weltanschauung?"** - спросил я.
Конвоир не ответил.
Его губы были тонкие и запавшие.
- Вам не страшно? - спросил я.
Конвоир не ответил.
"Как же так? - думал я. - Со зверьми не сговоришься – культуры разные…А тут – человек…"
Я сделал сорок шестой шаг.
Мне исполнилось 24 года, и я не хотел умирать. От пожилых австрийских психиатров я слышал, что в последнее мгновенье перед казнью приговорённых охватывает внезапный зуд милосердия; воспалённый до безумия мозг принуждает несчастных поверить в то, что с ними ничего ужасного случиться не может, что через секунду-другую им зачитают документ о помиловании…
Лающий голос подгонял: "Туда! Туда!"
У конвоира были синие глаза и тонкий нос. Мне подумалось, что у многих моих знакомых синие глаза и тонкие носы. Кажется, впервые в жизни я скверно подумал об эволюции человека.
Я сделал сто восьмой шаг и оглянулся на моих друзей. Казалось, их лица слились в бесформенное пепельно-серое пятно, которое, тихо раскачивалось. Подняв голову к небу, я на всякий случай пожаловался: "Неужели Ты разрешил проделывать с нами такое?"
Прошло мгновенье.
Он мне ответил! Удивительно – Сам Создатель мне ответил! Он мне сказал: "Ты ненормальный!"
Я сделал сто семидесятый шаг.
Не переставая, я повторил строку из Поля Валери: "Если хочешь жить, ты так же хочешь умереть; или же ты не понимаешь, что такое жизнь".
Устав повторять, я опустил голову. Кажется, что такое жизнь, я не понимал.
"Туда!" - кивнув в сторону вырытого рва, кричал человек с синими глазами. Я подумал, как забавно получается, как неожиданно – последний человек, который провожает меня на этой земле, одет в каску. Мне вспомнился финский полицейский, который выдал нас гестапо. На его голове была синяя фетровая
*Книга "Числа" 35:33
** (нем.) Мировоззрение.
шляпа.
Первыми к яме подошли Колманы. Перед самым краем они посмотрели на нас. Они собирались что-то сказать.
Пролаяли выстрелы.
Касаясь друг друга плечами, бёдрами, коленями, Колманы повалились вниз.
Поравнявшись со мной, Курт Хуперт шепнул: "Поторопись сказать молитву", и я сказал: "Подскажи Господи, как обрести веру в Тебя?"
Курт сделал шаг вперёд и громко произнёс: "Вера должна прийти сама ".
Вдруг он остановился, будто кого-то поджидая.
"Ждёт знака свыше", - подумал я.
Подскочил конвоир, зарычал: "Туда!". От удара прикладом винтовки Курт упал и пополз к яме, жалуясь на то, что жизнь не удалась. Мой рот наполнился горечью от мысли: "Зато удалась смерть".
Я сделал двести первый шаг и сказал себе: "Amor fati"*.
В детстве меня привлекали огни праздничных костров, и однажды я решил огонь потрогать.
- Почувствовал? - спросил отец.
- Да.
- Больно?
- Да.
- Огонь не заставил тебя поразмыслить?
- Нет.
- Напрасно. Советую этим заняться.
Я сделал триста семидесятый шаг.
Посмотрев туда, где слились небо и земля, я подумал об ошибке Достоевского. Красота слишком хрупка, чтобы справиться с мерзостью. И любовь не в силах… Ни она, ни книги, ни музыка…
Небо…
Земля…
В какой-то книжке я прочёл, как бабушка советовала внучке жарить блины: "Когда подбрасываешь блин на сковородке, надо думать о чём угодно, только не о том, куда он должен попасть. Будешь думать об этом, он обязательно свернётся или шлёпнется на горелку. Чтобы добраться до сути вещей, надо отвлечься от цели…"
Я шёл к яме…
"Неужели, - спросил я себя, - пуля, пущенная из винтовки, и есть цена моей жизни? И о чём жалеть более: о моём настоящем, которого вот-вот лишусь, или о будущем, о котором, возможно, никогда не узнаю?"
Яма…
Ещё мгновенье-другое и я…
Утешил Бисмарк: "В жизни, как в кресле у зубного врача: всё время кажется, что главное ещё будет, а оно уже позади".
Яма…
*(лат) Полюби свою Судьбу.
Всё ближе…
Проходя мимо меня, Цибильски вполголоса проговорил: "Всё то, что Бог и Дьявол задумали проделать с нами, они через несколько мгновений исполнят, однако род Цибильских непременно продлится, ибо свои хромосомы я успел использовать вовремя ".
Я молчал.
- Выше голову, - сказал Цибильски, - расстрел – всё же не вешанье.
И вдруг он повернул голову к конвоиру:
- Продай ружьё!
Тот не ответил.
- Тогда подари! - предложил Цибильски.
Конвоир растерялся. Его глазные яблоки выступили из орбит, отчего лицо приобрело схожесть с болотной жабой. Конвоир не мог знать о таланте Цибильского к нестандартному мышлению, и уж, конечно, не знал, что, будучи студентом, Цибильски довёл до кипения умы университетской профессуры своим скандальным докладом на тему "Влияние венских сосисок на состояние современной поэзии Австрии".
Придя в себя, конвоир рявкнул: "Молчать!"
Цибильски в ответ рассмеялся, и я, не отрывая от его спины взгляд, подумал: "Цибильски, по своему обыкновению, не упустил возможности лишний раз пошутить. "Второго шанса жизнь не даёт, - любил он повторять, - только не спрашивайте, какой именно шанс". Остановившись у края рва, Цибильски бросил взгляд на тех, кто держал в руках винтовки, выпятил грудь и воскликнул: "Да здравствует король!"
"Молча-а-а-ть!" - гудело в воздухе.
И тут Цибильски добавил: "Короли – мудаки, а вместе с ними и те, кто…"
Пули не дали ему договорить.
Дневной свет загадочно качнулся.
Небо изобразило недовольную гримасу.
…Однажды, когда я стоял у окна моей детской, мне показалось, будто небо от меня спряталось. Я сказал об этом отцу. "Такое бывает…" - ответил отец.
Ко мне приблизилась яма.
В воздухе запахло смертью.
В голове шевельнулась мёрзлая мысль: "Вот она плата.. Неужели для того, чтобы возродиться иным, необходимо превратиться в прах и ждать нового акта зачатия?"
Яма…
Я заглянул в неё и увидел Франца. Из его головки вытек мозг, а широко раскрытый рот Георга Колмана напоминал неожиданно вскрикнувшую рыбу. Должно быть, Георга что-то сильно изумило. От кого-то я слышал, что когда родители хоронят своего ребёнка, то вместе с ним они хоронят и Бога.
Яма…
"Неужели эта земля превратит мою плоть в нечто гниющее, невыносимо зловонное…" - подумал я и оглянулся на конвоиров. Я ожидал встретить глаза, налитые кровью хищных зверей. Ошибся. Глаза моих палачей смотрели безразлично и немного устало. "Неважный из меня психолог, - решил я, - ну, да ладно – теперь это последняя в моей жизни ошибка…Das Schlimmuste ist voruber"*. Мама…Отец… Мы стояли в стороне, и вот… Мы проиграли… Разве можно победить, не став солдатом? "
Яма…
Я закрыл глаза и увидел перед собой протянутые ко мне руки Миры.